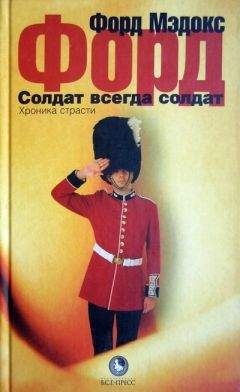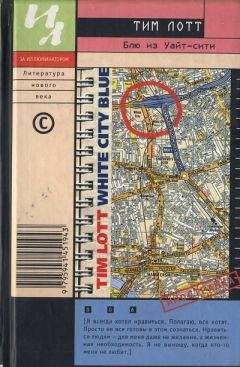Томми тяжко вздыхает, отчего его необъятная грудь делается еще более необъятной. Он не смотрит на брата, старательно изучая свои жирные, как сардельки, пальцы.
— Брось, Чарли. Хватит все валить на меня. Просто все… так повернулось… сам видишь. Такие теперь времена… ссученные времена… чтоб их… Вдруг свалились прям с неба всякие… возможности, хочешь — суетись, хочешь — сиди тихо. Двадцать лет назад все было совсем иначе. Небось и Мо не смылась бы от тебя, даже если бы ты ей врезал. Сидели бы в своем Фулеме и радовались тому, что есть. Никакой мороки. Ни магазина, ни просроченных долгов. Но жизнь не стоит на месте. Все стало другим, парень. Мы живем совсем в другом мире, Чарли. Ты не можешь ни в чем меня упрекнуть. Это как в картах. Как в "стад-покере". Или пасуешь, или делаешь ход. Идешь, как ты сказал, ва-банк. Раньше мы все играли в безобидные игры, вроде "сбрось туза". Там что проиграл, что выиграл — все едино. Ставили-то по шесть пенсов, по шиллингу, примерно так. А теперь все стали ушлыми картежниками. Теперь играют только в покер. Или в джин. Высокие ставки. Все или ничего. Или все — или ты горишь синим пламенем.
У Чарли дрожат руки. Он отправляется на кухню за виски, а вернувшись, наливает себе полный стакан.
— Значит, я… горю.
Томми разводит руками:
— Неожиданный удар с левой, "китаец". Так уж легли кар…
— Ладно, Томми. Ты прав. Я слишком смело блефовал. Но я еще могу отыграться. И взять банк. Послушай, сколько бы ты мог мне одолжить? Двадцать — это, конечно, серьезная сумма. А десять? Десять для тебя вообще ерунда. Еще я могу не продлевать страхование жизни, они мне тоже, по идее, должны выплатить солидную сумму. Ну как, выручишь меня, Томми?
Томми неловко ерзает в кресле:
— Дело даже не в количестве денег…
— А в чем же?
— Понимаешь, строительные дела тоже сейчас совсем заглохли, никаких заказов.
— Но ты мог бы взять еще один кредит на дом, добавку.
— Лоррейн упрется. Она мечтает отправить детей в частную школу, чтобы они выросли такими же пизданутыми, как она сама. Она хочет новую машину. И вообще, ее не устраивает наш стиль жизни, во как. Сам знаешь, бабам вечно неймется. Если бы я мог… Но я и сам еле тащу этот воз, старичок.
— И это все, что ты можешь мне сказать? Что ты ничего… совсем ничего…
Томми пожимает плечами и трет костяшками пальцев лоб. Даже лоб у него жирный, мелькает в голове у Чарли.
— Нет, погоди. Думаю, я смог бы наскрести ты-щонку. Втихаря от Лоррейн, ничего ей не докладывая.
Чарли горестно кивает, осознав всю безысходность своего положения:
— Тыщонку.
— Ну, может быть, еще двести фунтов. Тысячу двести, не больше.
— Понимаю.
Чарли прячет лицо в ладонях. Сквозь сцепленные пальцы доносятся приглушенные слова:
— Это Лолли, да?
— Знаешь, ее тоже можно понять…
— Она всегда меня не любила.
— Брось, это ты зря.
— Блядь.
— Ты полегче, Чарли… Она моя…
— Сейчас я тебе кое-что расскажу.
— Говорю же тебе, успокойся, не заводись.
— Дешевка она. Обыкновенная блядь.
— Как ты смеешь? Думай, что несешь…
— Тогда в восьмидесятом, на Рождество. Я застукал их в его спальне. Они были вместе.
Томми таращит глаза, нервно меняет позу, складки жира мелко подрагивают.
— Смеешься, что ли? Кто вместе-то? Ты вообще о чем?
— О том самом. Лоррейн твоя вдруг решила почистить зубки, правда, весьма оригинальным способом.
— Что? Ты хочешь сказать…
— Я хочу сказать, что индюшку она тогда есть не стала, но нашла другую, более аппетитную птичку. Птенчика. "Под небом Мексики порхаю, сгораю от любви". На пару с Робертом. Думаешь, я вру? Томми… я сам все видел. И что они, по-твоему, делали? Жгли в рождественском очаге целебные травы? Вместе с поленом?
Лицо Томми постепенно наливается кровью. Сейчас он думает только об одном: братец сумел нащупать самое слабое его место и точно нанести удар.
Потом он понимает, что Чарли говорит правду, не просто понимает, но осознает. Томми хорошо изучил своего брата, тот сроду бы не додумался до такой пакости. Его охватывает ненависть, нет, не к Лоррейн — это чувство придет, но придет позже. Его пронизывает ненависть к Чарли, смертельная ненависть, сокрушающая последние остатки жалости и сочувствия, все же слегка царапавших душу.
— Да пошел ты на хрен, Чарли! Не дам я тебе никаких денег. Ни единого пенни. Лолли была права. И Рыжик. И Морин. Все были правы. Только сам ты все хорохорился, дряхлая ты манда, ни на что уже не годная. Ты — в проигрыше.
Томми разворачивается, чтобы уйти. Вообще-то он хотел вмазать Чарли по морде, но в последний момент сдержался, увидев, как задрожало лицо брата. Слишком жалкое зрелище.
— Прости. Я не хотел тебя обижать — само вырвалось. Давай больше не будем ссориться, а? Ты должен мне помочь, Томми. Я еще не тону. Я не хочу тонуть.
Но Томми уходит, уходит навсегда в мертвенное безмолвие сумерек нового города.
Проходит три недели. Остается последняя, до того, как мир, построенный Чарли Баком, навсегда исчезнет, разбившись на мелкие кусочки. Добыть ему удалось восемь тысяч семьсот шестьдесят три фунта. Вместо оговоренных двадцати. Он не стал продлевать полис страхования жизни, но получил по нему жалкую сумму, хотя оформил его десять лет назад. Он продал все свои акции, и "газовые", и "водные", и "электрические". Роберт оформил ради него кредит на три тысячи, чем немало удивил. Чарли продал все мало-мальски ценное, и теперь жил как рак-отшельник, без телевизора, без видика, даже без плиты и холодильника. В последнюю очередь он расстался с коллекцией пластинок Мантовани, буквально оторвал от сердца. Один поклонник купил все оптом. Он, Чарли, собирал их всю жизнь, и вот — всего пятьдесят фунтов. Примерно по пятьдесят пенсов за штуку. Мантовани больше никому не нужен. Вкусы меняются, это уже вчерашний день.
В данный момент Чарли сидит на полу, методично опустошая свой бар, единственный предмет роскоши, с которым он не смог расстаться. Он влил в себя почти пинту виски с содовой. Чарли чувствует, как от него несет, это тошнотворный запах краха.
Докатился… клянчил деньги у собственного сына, это было самым ужасным.
Оставался самый последний шанс достать нужную сумму, но это уже полная дичь, это уже за гранью… Чарли снова и снова прокручивает в голове этот план, мысли его путаются, фразы, которые он бормочет себе под нос, делаются все более обрывочными, обвинения переплетаются с оправданиями.
Я никогда не лазил в эту шкатулку… Но деньги-то мои… В конце концов, она мне больше никто… Но где она их держит, а?.. А если сигнализация?.. Морин никогда не доверяла всем этим сигнализациям… Стерва… как она могла так поступить?.. Нет, нет, она не стерва… моя жена, моя Мо. Детка моя. Прости, детка. Мне очень нужны деньги, позарез. Пойми… я не хотел этого делать… прости меня… А Питер, он… Питер, этот мудак… Я не могу на это пойти. Но я должен. Должен переступить… Иногда человеку приходится переступать грань… Есть победители, и есть проигравшие. На мотоцикл, парень. Садись на мотоцикл — и вперед, на дело. На мотоцикл — и вперед, на поиски клада. Я знаю, где ты. Я знаю, где ты живешь… Я-знаю-где-ты-живешь.
Он с трудом поднимается с пола и вспоминает, что знает весьма приблизительно, никогда не бывал в новом доме своей бывшей жены, в смысле, внутри дома. Да, Питер продал свой дом, и они переехали в самый престижный район, туда, где сохранились настоящие старые дома, с тех времен, когда деревушку еще не превратили в "город мечты". Чарли пришлось однажды завозить какие-то бумажки, связанные с процедурой развода, он смутно помнил стоящие на приличном расстоянии друг от друга дома, ухоженные живые изгороди, и старинная пивная неподалеку от дороги, которой уже два века, не меньше. На их доме скромная лакированная дощечка, а на ней — золотые буковки с наклоном, стало быть, курсив: "МОИПИТ. Чарли кажется, что это милях в трех от его дома.
Он срывает с вешалки плащ, хватает замшевые перчатки и, сам не зная зачем, запихивает в карман два полиэтиленовых пакета с логотипом "Сейнзбериз", в этом универсаме он любит покупать себе на завтрак копченую лососину. Чарли не очень твердо стоит на ногах. Алкоголь затуманил ему мозги, но зато добавил оптимизма и храбрости.
Только-только начало вечереть. Чарли уверен, что Пит и Морин еще на работе. Они много работают. Им приходится много работать. Роберт сказал, что дела у них идут хорошо, несмотря на теперешний спад. Понятно, всем нужно уметь водить машину. Роберт сказал, что они вкалывают как проклятые. В доме сейчас никого. Он точно это знает. Он чувствует, что сегодня ему повезет.
На улице Чарли довольно скоро понимает, что оделся слишком легко, но холода почти не ощущает. Он идет по пустым велосипедным дорожкам, мимо мостов, мимо дорожных развязок— "каруселей", по которым постоянно снуют машины. Прохожих совсем не видно. Как ему это нравилось, когда он только приехал в Милтон-Кейнз, какое восхитительное ощущение свободы он тогда испытывал: ни суетливой толпы, ни шума, ни чада, ни гари. А сейчас эта пустота давит, кажется зловещей. Чарли вдруг мучительно захотелось попасть сейчас в шумную лондонскую сутолоку.