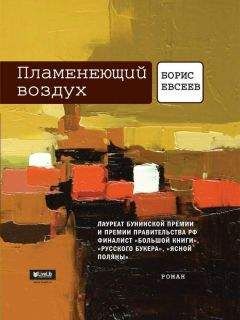Ознакомительная версия.
Глава сорок седьмая Ракоход
Предчувствуя скорую свою высылку из России (и даже наверняка зная о ней), Шарль-Франсуа Филибер Массон де Бламон стал думать о памятных записках. Отжито ведь в России более десяти лет. И каких!
Вскоре было найдено тем запискам и заглавие: «Секретные мемуары о России времен царствования Екатерины Второй и Павла Первого». Частью еще только задуманные, а частью уже и осуществляемые, «Мемуары» заносились на бумагу кусками.
Секретное маиор Массон — артиллерист и математик — выставлял в «Мемуарах» закорючками и значками. И наоборот: то, что можно было без опаски представить постороннему глазу, — выписывал ясно, отчетисто. Сим отчетистым иногда он с питерскими знакомцами делился: читывал вслух. Маиору было забавно наблюдать, как русские со вниманием выслушивают про себя напраслину, сплетни, гадковатую правду.
Сии начатые в России мемуары причиной Массоновой высылки и стали…
Фомин получил приглашение к маиору через барона Розена. Приглашение было внезапным. Ранее таких приглашений от холодновато-вежливого барона не было и быть не могло.
Лишних свечей не жгли: Массон читал по рукописи в полутьме. Лишь помигивал сквозь приоткрытые двери, ведущие в оранжерею, дальний фонарь да на конторке, над рукописью, дымил огарок в плошке. Слушали внимательно. Магнетизируемые голосом маиора дамы без излишнего шуму уклонялись от настырных кавалеров. Евстигней Ипатыч вздрагивал, вспоминая Адонирамовых братьев. (Дрожи сильно способствовала фамилия маиора.)
Правда, заинтересовало Фомина вовсе не то, про что француз сплетничал. Даже не то, о чем он тихо покрикивал:
— О, Екатерина! Ослепленный твоим величием, пожелал я воздвигнуть монумент твоей славе! Но потоки крови…
Кавалеры в креслах дошли до дерзостей, раздался женский вскрик.
— Но потоки крови, — чуть возвысил голос Массон, — тобою пролитые, монумент ниспровергли. Лязг цепей тридцати миллионов твоих рабов оглушил меня... — Массон ошалело помотал головой, — судебный произвол и преступления, царствовавшие от твоего имени, привели в негодование...
Лязгавшие цепи Фомина не заинтересовали. Да и не французу, вовсе никаких цепей не знавшему, было рассуждать о них. Заинтересовало другое: как европеец оценивал пиэсы только что упокоившейся матушки Екатерины.
Массон читал далее:
— Из игранных на городском театре пиэс, принадлежавших императрице Екатерине (она дурно писала по-русски и секретарь исправлял их), одна принадлежит к новому жанру: это не трагедия, не комедия, не опера, но смесь всех этих жанров, озаглавленная — «Олег, историческое представление».
Евстигней Ипатыч про себя хмыкнул:
«Вон оно как... Тут француз, пожалуй, прав. Нового жанру опера. Окрошка из глупого и сурьезного, буффонства и драмы... Пора б и тебе, Евстигней Ипатыч, над обновленьем собственных опер подумать. Да и вывести на свет Божий нечто историческое. Не нового «Владисана» искать, где все ж таки больше вымысла... А подлинную историю, с подлинной музыкой увязанную. Музыка ведь — тайный голос времен, как раньше не догадался!»
Воображение относило вдаль. Унял его все тот же маиор Массон, на весьма интересном месте слегка возвысивший голос:
— Последняя декорация в опере, как помните, господа, изображала ипподром, на коем Олег зрит игры олимпийцев. Сие было ново, необычно. В глубине сцены — еще одни подмостки, для разыгрывания сцен из трагика Еврипида, на греческом, заметьте, языке. А уж вслед за тем Олег прибивает щит к колонне, в знак пребывания своего в Константинополе... Все, что я тут припомнил, подводит к одному: сия пиэса — совершенно в русском характере и особенно в духе покойной Екатерины. Пиэса, медам и месье, представляет собою изображение излюбленных екатерининских проектов и намерений, касаемых, — тут француз предостерегающе поднял вверх палец, — касаемых покорения Турции. Однако ж намерения эти показаны в волшебном фонаре, что придает им характер мечты. Итак, господа, русский характер есть мечта. А дух русский лучше всего в волшебном фонаре (фонаре искусств, разумею) виден.
Тут Массон — что было бы недопустимо на письме — внезапно перескочил на другое. Утишив голос до pianissimo, перешел он к государю Павлу Петровичу.
Сего Фомин слушать не пожелал. Про матушку государыню еще мог стерпеть. Даже про ее якобы «шутовскую Комиссию, ставшую безделушкой в драгоценном, — на чем особенно настаивал маиор, — ларце». Но когда «самым уродливым человеком в империи» был объявлен император Павел — терпеть не стало мочи.
«Враки! — подымаясь с места, плевал незаметно на пол Евстигней Ипатыч. — Враки и враки! Хоть и претерпел я от матушки, а не такова она. А уж его величество Павел — не таков и подавно!»
Слегка в полутьму поклонившись, Фомин чтецкое собрание покинул.
Запоздалый выход в «большой свет» был безнадежно испорчен.
Но от испорченного вечера вдруг повеяло и отрадой.
Показалось: чем тяжелей внешние обстоятельства, чем неприятней ему в обыденной жизни, тем легче внутри себя. Там, внутри, жизнь его постепенно становилась легче, беспечней, чтоб не сказать — бесплотней.
Кроме того, с некоторых пор жизнь шла не вперед — а назад! Шла неостановимо, мощно. И сие было приятно, дорого. И выражалось во многом. В первую очередь вот в чем: возвращалось то, что словно бы навек пропало. А нового — того как и не было вовсе.
К примеру, возвратилось желание писать одни хоры. Возвратилось и желание сочинять полифонически, многоголосно, как некогда в Италии. Полифония (то есть постоянное повторение уже происшедшего, а также утроение и учетверение того что уже произошло, того, что уже прозвучало) чуялась ему во всем. Любое событие жизни представлялось как уже некогда имевшее место. И теперь просто повторяемое в ином обрамлении, в других одежках, звучащее противосложением, то бишь проходящее тою же темой, но чуть позже, эхом, в подголоске.
Возвратное движение жизни — от конца до начала основной темы — было отрадным, но по временам и пугало.
Возвратилась ставшая важной дамой, но обожаемая так же страстно Алымушка. (Сие — пугало.) Был, письмом из Москвы, Петруша Скоков. (Правда, в письме предстал он не другом сердечным, а издевателем, насмешником. Сие — раздражало.) Вернулись мысли об архитектуре. (Но сии мысли строили теперь не дома — вились вокруг построенья первых русских синфоний. Тут пока недоставало умения.) Вновь зазвучал в ушах и роговой оркестр. (Но уже не как диковинная радость, а как грусть уходящая скончаемого на глазах осьмнадцатого столетия...)
Но самое главное, возвращалась детская надежда: умри ты сейчас — завтра жизнь новая настанет! Новая, и при том невыражаемая ничем, кроме музыки.
— Ракоход, ракоход! — вскрикивал радостно Евстигней Ипатыч.
Так русские наставники называли еще до отъезда в Италию — особый (запаздывающий и обратный) способ проведения музыкальных тем, ведущий к многоголосию, к противосложению, к полифонии.
Он чувствовал: и в империи, и внутри него — начиналось великое противосложение! От того жизнь становилась страшней, но и полней, интересней.
Слагали — против того, что было! Раком пятились все! Да не все то разумели. Происходило так в делах — одни возвращения ссыльных из Сибири и других отдаленных мест чего стоили — происходило так в словах.
И сейчас, возвращаясь с Массоновых чтений, он вспоминал Академию, вспоминал Италию, а вместе с ней — почти десятилетней давности петербургские шепотки: про французские дела, про неслыханные вольности и дивные послабления.
«Масон на суку — оп! Покусан носом» — попытался взяться за любимую игру, попытался слепить перевертень из прошедшего вечера Евстигней Ипатыч.
«Я иду с мечом судия!» — рубанул питерский воздух державинский стих.
«Анна дар и мне сень мира данна» — сие из старинной поэзии. Над Анной колыхнула арфическими крылами Алымушка. Сей ракоход вызвал гримасу боли.
После перевертней стало проборматываться и нечто новое:
— Как же это можно — так вот, походя, определять про уродов и про кровушку? То же самое — и про русский характер. Кто его обрисовал по-настоящему, чтобы так поспешно об нем судить? Да и самый дух русский... В ком он из ныне живущих обретается? Кому из нас присущ?.. Впротчем, и правды в Массоновых словах, без сомненья, немало. Фонарь и мечта! Мечта — на фонаре! Язычок пламени на Кронверкском — уловленный некой объемной формой! Вот что есть русский дух и русский характер! Горит язычок, пылает. Только... Ветер дунет — мечта погаснет. Но фонарь-то останется! Фонарь есть власть. А язычок пламени — мы, творители муз... А вот мог ли князь Олег о чем-то сходном мыслить?..
Вспомнив про Олега, Фомин отчего-то припомнил «Мельника». Даже не музыку: обстоятельства написания оперы припомнил.
Ознакомительная версия.