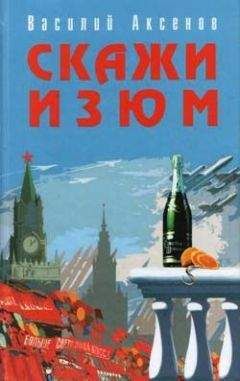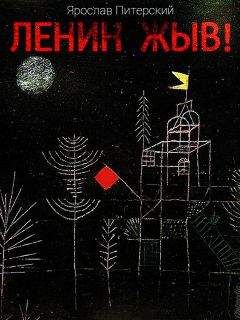Ознакомительная версия.
– Ну хорошо, – сказала Полина, – давайте сразу. Я пришла к вам поговорить об Андрее.
Настя почему-то не сразу сообразила, о каком Андрее идет речь.
– Об Андрее Евгеньевиче Древесном, – пояснила Полина. – Дело в том, что из-за всей этой возмутительной истории он оказался в двусмысленном положении.
Январское солнце из застекленного люка на крыше столбом опускалось на мохнатый македонский ковер. У дам, сидящих рядом со столбом, золотились отдельные пряди. Между ними дымились две чашки кофе. Не обошлось и без сигарет, они тоже дымились. О какой возмутительной истории идет речь, поинтересовалась Настя. Ну, об этом альбоме, ну, кому это было нужно, кроме… Полина споткнулась. Понятно, понятно, кивнула Настя. Черт возьми, Полина ткнула сигарету в пепельницу, я как-то дико волнуюсь, у меня внутри все дрожит. Поймите, Андрей – исключительная натура. Он оказался меж двух огней. Подозрение сверху и подозрение снизу…
– Впечатляюще, – прошептала Настя.
Полина сарказма в ее голосе не заметила, продолжала вываливать то, что так ее трясло последние дни, будто неопытный лыжник разогнался и не может ни повернуть, ни остановиться. Андрей идет на такой колоссальный риск, а его товарищи за спиной у него пускают слухи, что он струсил, что он трус, чуть ли не предатель. Это такой человек… он не способен на предательство. Вы говорите, все рискуют? Я этого не говорила. Ну, имели в виду. Да, все рискуют, но Андрей ведь это не все. Немыслимо ранимый, самоед, сплошное сомнение, рефлексивность, ну, словом, все, что полагается у настоящего художника… Надо что-то сделать, Настя, надо его спасти! Подозрительность со стороны друзей – для него это ужасно, это может толкнуть его на безрассудный шаг, именно потому что он не трус… и вы…
Да, я, так что же, позвольте, сказала Настя, при чем же тут я?
От этого вопроса Полина как бы затормозилась, взглянула на Настю, глаза ее расширились, ну и глаза, действительно океаны, взяла новую сигарету, ибо курение для нее всю жизнь означало, как и для многих других женщин, вовсе не вдыхание дыма, а изменение позы, череду поз, что позднее перешло в сигаретный образ жизни. Говорят, что у вас, Настя, сейчас (подчеркнуто модуляцией голоса) большое влияние не только на Макса, но и на всю нашу (подчеркнуто паузой)… братию. Я ведь многих знаю, особенно «старую гвардию»… Она усмехнулась, махнула на собеседницу красивой рукой. Перестаньте, перестаньте, у вас уже сразу все эти слухи на уме. Слухи о моем распутстве очень преувеличены. Словом, я знаю, как женщина может повернуть настроение в фотографической среде. Нужно… вытащить Андрея… и снова дыхание сбивается, сигарета втыкается, пряди падают… волосы у нее, увы, секутся, кожа, к сожалению, не в лучшем состоянии… ну, как женщина к женщине, поймите, я мать его детей, я и сейчас его, увы, вы понимаете, хоть что-то надо сделать…
Простите, Полина, чего же вы все-таки хотите? – вопросила Настя. Чтобы Андрей вышел из «Нового фокуса»? Так ведь никто не держит.
Нет, вскричала Полина. Если он выйдет, Москва объявит его трусом, предателем, а он себе этого никогда не простит!
Так, стало быть, вместе со всеми держаться? Простите, но вынуждена задавать наводящие вопросы. Вместе, что ли, до конца? Может, вам коньяку налить?
Нет, нет, мне нельзя, давно уже нельзя. И ему нельзя вместе со всеми. Ведь вы же понимаете, его просто растопчут, он не способен на борьбу, ведь это же не Макс…
– Продолжайте, – сказала Настя.
Я хотела сказать, что в нем нет огородниковской силы, решительности, одержимости, если хотите. У него нет огородниковских международных связей. Вы, я вижу, тоже сильный человек, и вы вместе, а Древесный одинок. Вы с Максом уедете, конечно, будете вести красивую жизнь, какие-нибудь там Балеарские острова, а ведь русской фотографии придется жить в тех же условиях, или еще хуже после всего этого…
– Продолжайте, продолжайте, – сказала Настя.
Да что же продолжать-то! Полина вдруг резко отвела рукой чашку, пепельницу, зажигалку. Столик задрожал под ее локтем, и все на нем задребезжало с нарастающей яростью. Андрей спускался в жерло вулкана! Нырял с аквалангом к «Черному принцу»! Высаживался на Северном полюсе! Хоть изредка подумайте не о своих делишках, а о русской фотографии! Единственного-то своего гения, Пушкина-то русской фотографии, должны мы ценить или нет?
Вы, кажется, очень торопитесь, Полина Львовна, очень вежливо сказала Настя. Подала меха, помогла собрать в сумочку разбросанное на столике хозяйство. Ступайте, ступайте, простите за жестокость, но вроде не по адресу.
Полина резко протопала к выходу, в дверях один высокий каблук подкосился, она обернулась к Насте в жалкой и скособоченной позиции, будто побирушка. Хотя бы не говорите ребятам о нашей встрече. Вот это баба, подумала Настя, прикрыв за ней дверь. Сплошная драма. Увы, мне такой никогда не стать.
Занявшись перипетиями нашей художественно-полицейской истории, мы, увы, грешим порой некоторой забывчивостью по отношению к иным персонажам. Читатель вправе нас, скажем, упрекнуть: куда подевали симпатичного молодого Вадима Раскладушкина? Появившись в «охотниковщине» со своим портфелем, скрывающим умеренные количества вкусного содержимого, прокатив на легкомысленных колесах по замерзшим лужам Атеистического переулка, проскользив затем по ледяным аллеям Измайловского парка и даже пленив своим стройным задком офицера соответствующих спецслужб Востока Владимира Гавриловича Сканщина, потолкавшись в подозрительном иностранном окружении на чердаке у русского молодца Михайлы Каледина и отчебучив самбу на даче Марксятниковых, этот блондин, всегда одетый в удобную красивую и мягкую одежду, как бы канул. Читатель вправе спросить: что же происходит с начинающим фотографом в огромной Москве, удалось ли ему завязать связи в артистических кругах, сделал ли успехи в профессиональной области, ну, словом, пора бы уже еще раз «мелькнуть» по законам развития композиции.
И вот завьюжило сильно в уютных переулках старой Москвы, когда Вадим Раскладушкин вновь появился в поле зрения. Дубленочка в три четверти, шерстяной кепи с наушниками, румяное лицо, как бы не отягощенное ни экономическими трудностями, ни идеологическим засильем всесильного марксизма. В принципе такая фигура должна была бы вызывать у встречных отрицательные чувства или хотя бы легкий скрежет зубовный, дескать, спекулянты прохлаждаются, пока мы работаем, однако при взгляде на Вадима светлели угрюмые взгляды, как будто он то ли память какую-то хорошую оживлял, о детстве ли, о юности ли, о том ли, чего вообще никогда не было в жизни какого-нибудь прохожего, то ли даже подавал своим видом какую-то немыслимую надежду – а почему бы, дескать, мне самому когда-нибудь не прогуляться вот таким образом в метель; дубленочка, кепочка, румяный мордальончик?
Вадим Раскладушкин на улице Герцена был в этот сумеречный вьюжный клонящийся к вечеру денек не один. Рядом с ним спотыкалась персона, гораздо ближе подходящая под категорию типичного москвича, ибо и штаны на концах были зажеваны, и пуговиц недоставало на пальто, и перчатка, утратив приписанную ей природой парность, пребывала в единственном числе. Словом, если уж мы взялись в этой подглавке подтягивать композиционные нити, почему бы нам рядом с Вадимом Раскладушкиным не разместить бывшего консультанта по делам Германии, Австрии и германоязычной Швейцарии Никиту Буренина, изгнанного из хорошего правительственного учреждения по дружбе с загранстранами за «отсутствие бдительности и халатность».
Раскладушкин и Буренин встретились впервые в жизни всего лишь час назад в пивном баре Дома журналистов на Суворовском бульваре. Вадим угощался кружкой свежего бочкового пива, ибо при всех своих положительных качествах чувствовал к этому напитку некоторую слабость, что, впрочем, не является чем-то негативным, если не выходит за лимиты. Приблизился с четырьмя кружками, нацепленными на пальцы вытянутых рук, длинный и согбенный под тяжестью пива человек с застывшей улыбкой на темном измученном лице. Разрешите? Пожалуйста, пожалуйста, присаживайтесь за компанию, сказал Вадим таким тоном, в котором заключена была, по его мнению, хорошая московская традиция. Через несколько минут Буренин, приблизив свое лицо, от которого слегка попахивало недопереваренной пищей, к Раскладушкину, шепотом выворачивал перед ним душу. В мммоем пппрошлом, ссстаричок, есть нечто постыдное, есть такая гадость, что иногда противно смотреть на себя в зеркало.
В Вадиме Раскладушкине Никита Буренин нашел благодарного слушателя. Целый час он рассказывал ему свою постыдную историю, вышел вслед за ним из теплого «гадюшника» и сопровождал в пешей прогулке по Суворовскому бульвару и далее по Герцену в сторону Консерватории, чтобы свернуть на бывший Брюсовский переулок, ныне улицу Надеждиной. Никита Буренин, который «по правилам московского жаргона» после увольнения из дружелюбного департамента со стремительностью невероятной стал «выпадать в осадок», не верил в этот час ни ушам своим, ни глазам, только лишь языку своему доверял. Приятный молодой господин, который походил бы на поместного дворянина, приехавшего в столицу в поисках должного места для применения своих благих намерений и недюжинных талантов, если бы не современная ловкая, легкая и теплая одежда, внимал каждому его слову, вникал в суть «постыдной истории» и проникался исключительным сочувствием.
Ознакомительная версия.