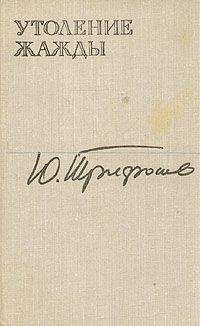Я им рассказываю, как ехал в грузовике с тестем Бяшима, и как потом ловили убийцу, и как происходили похороны, и как читали вслух телеграмму от строителей канала… Каждый новый человек, подходящий к костру, просит рассказать все снова, и я рассказываю. Они любили этого парня. И получилось, будто я тоже знал его, и любил, и привез последний привет от него.
Так проходит остаток ночи. На рассвете Карабаш и Ермасов садятся возле костра на землю, и по тому, как они просят чай и разговаривают о погоде, о том, что небо очистилось и будет солнечный день, я вижу, что у них отлегло от сердца. Да, перемычка растет! Теперь это ясно. Место по рельефу выбрано правильно.
Карабаш чудовищно исхудал за последние сутки: щеки впали, глаза блестят, как у больного.
Первый успех всем прибавляет силы. Никто в эти рассветные часы не спит, и даже Марина, отдыхавшая, может быть, три часа, рвется на бульдозер и пытается вытолкнуть из кабины своего сменщика.
Но вдруг происходит событие, которое грозит свести на нет все усилия ночи. Один за другим выключаются моторы тракторов. В наступившей тишине слышу, как люди что-то кричат. Мы все, кто были у костра, бежим к перемычке: оказывается, свалился бульдозер. Вон он внизу, наполовину в воде. Машинист успел выпрыгнуть из кабины и выплыть, еще бы немного — и крышка. Долговязый туркмен стоит, дрожа от ледяной воды, весь мокрый, без шапки, хрипло дышит и озирается с диким и бессмысленным выражением.
— Где его сменщик? Где Сапаров? — кричит, мечась по берегу, какой-то молодой, заросший черной щетиной туркмен из начальников. — Сапаров брал трос!
— Дайте ему коньяку! Где горячий чай?
— Несите трос!
— Надо спасать машину!
— Надо перемычку спасать! Вода смоет весь грунт, пока будем его вытаскивать!
— Засыпать его песком! Пожертвовать им!
Все это выкрикивается наперебой, в течение нескольких секунд. Трактор уже глубоко погрузился, над поверхностью торчит одна кабина. Вода, как бы ободренная внезапным смятением людей и тем, что песчаная бомбардировка прекратилась, с удвоенной скоростью проносится мимо берега и разрывает тело перемычки, ее основание, созданное с таким трудом. Пока инженеры и машинисты лихорадочно советуются, как быть, один из рабочих начинает вдруг раздеваться. Это русый бородатый парень, его зовут Иван. Вот он уже в трусах и в рубашке, на белых ногах остались черные скрученные носки, и он бежит к откосу.
— Давай трос! — кричит он.
Ему протягивают металлический трос. Он прыгает в воду. Ныряет в ледяное нутро. Он пропал. Его не видно, его нет, его все еще нет. Его нет, наверное, уже минуту. В такой воде может быть судорога. Но вот он! Выскочил! Всклокоченная голова с разинутым ртом, хватающим воздух. Ему что-то кричат, но он не слышит. Он снова ныряет, и опять его долго нет. Трактора тоже нет. Вода поглотила его, и на том месте, где трактор исчез, кипит водоворот.
Снова выныривает всклокоченная голова и, отвечая на все вопросы с берега, мотает отрицательно: нет, нет, нет! Из толпы стоящих на берегу раздается крик:
— Ваня, я здесь! — Еще один парень раздевается и, мелькая смуглым худым телом, соскакивает с откоса и как-то неумело, боком, но решительно плюхается в воду. Это туркмен, сменщик Ивана.
Теперь они выныривают по очереди. Пока один набирает в легкие воздух, другой работает под водой с тросом. Надо зацепить трос за крюк. Наконец после шестого или седьмого ныряния это им удается. Они выбираются на берег посиневшие, на подгибающихся ногах. Их подхватывают, набрасывают на них кошмы и ведут к костру. Туркменский малый не может вымолвить ни слова, стучит зубами и таращит глаза — шутка ли для туркмена броситься в ледяную воду! — и лицо его ужасно испуганное, как у человека, который думает, что он вот-вот умрет, а Иван гудит невнятное, то ли хочет засмеяться, то ли рассказать что-то, но губы его не слушаются, и он только отдувается и встряхивает головой, и с бороды его летят брызги.
Ребятам дают коньяку и по полулитровой банке горячего чая.
— Корреспондент! Где корреспондент? — кричит Ермасов, приближаясь к костру. Как всегда, он движется стремительно, кожаное пальто распахнуто.
— Здесь, — говорю я.
— Что же вы не пишете? Не скребете пером? Вот герои наших дней. — Он треплет за волосы окоченевших ребят. — Черти, почему головы не сушите? К огню к огню! Сушить немедленно! А вы заряжайте ручку…
— Сделаем, Степан Иванович.
— А то насчет угробленной техники горазды, а вот насчет спасенной…
Он проносится дальше, в палатку.
Через четверть часа Иван и его сменщик отогреваются и готовы вновь садиться за рычаги. Сапаровский бульдозер выволочен на берег. И снова грохочут, выстроившись в колонну, бульдозеры, с шумом обрушивается песок и взбухает вода над местом будущей перемычки. И никто не замечает того, что на востоке встало желтое, как янтарь, солнце и небо в той стороне алое, а наверху, где еще мерцают две-три звезды, редеет прозрачно-зеленый сумрак. Никто не замечает чистоты и прозрачности неба, никто, кроме меня.
Еще день, и ночь, и еще один день ревут, не затихая, моторы бульдозеров и горит костер на берегу. На третью ночь перемычка воздвигнута. Вода остановилась. Теперь можно восстанавливать дамбу.
Люди, не спавшие трое суток, впервые получают удовольствие от затяжки папиросой и горячего чая. Они вспоминают о том, что кончился январь и скоро весна, и сладко вдыхают запах дыма, солярки, мазутных тряпок, горящих в костре, и подмороженных кошм, которые медленно сыреют, отогреваясь возле огня, и чудесно пахнут бараньей шерстью.
Вечером третьего дня Карабаша нашли в палатке, лежащим без движения. У него был жар. Он потерял сознание от высокой температуры. На газике Ермасова его повезли в поселок, и он не видел, как ночью, закончив перемычку, ликовали у костра бульдозеристы, и как во время этого ликования прибыли на трех машинах высокие гости из Ашхабада — один был, кажется, из управления, другой чуть ли не автор проекта Баскаков, и с ними свита человек пять, — и Ермасов иронически благодарил их: «Спасибо, товарищи, что вы так вовремя приехали! Большое спасибо за помощь! Но сейчас все у нас слава богу…»
Гости осмотрели место прорыва, разрушенную дамбу, где уже шли восстановительные работы, и перемычку и не могли скрыть своего ошеломления. Они были рады, разумеется, и все-таки ошеломлены. Им казалось, что тут работы еще дней на десять. Они прибыли спасать стройку от катастрофы, вооружившись для этой цели чрезвычайными полномочиями и программой самых крутых мер. Вплоть до смены руководства.
Все это рассказал Ермасову под секретом старик Уманский, тот самый, что возглавлял комиссию по проверке реммастерских. Я стоял рядом и слушал: старик считал, что я единомышленник Ермасова. Он шептал взволнованно:
— Степан Иванович, но каким образом удалось?..
— Народ выручил! Ребята ночей не спали.
— Подвиг, подвиг, Степан Иванович! И нам, строителям, это ясно, но чиновники, конечно, свои следствия выводят. Паника произошла громадная. И уж приказ готовился, и на ваше место подыскивали. Даже фамилию называли…
— Ну, понятно, — сказал Ермасов. — Как же без фамилии?
Но так и не спросил, какая фамилия. Приезжие покрутились около часу, Ермасов уговаривал их остаться переночевать в палатках — места много, и спальные мешки есть, — но ашхабадцы уехали в Сагамет.
В конце ночи произошло еще одно событие: заболела Марина. Сначала она лежала на кошме и тихо стонала, потом стала кричать от боли. Все сбежались в палатку. Никто не мог ей помочь, даже Ермасов, которого я впервые видел в растерянности. Мы думали, что начались роды, но отец Марины, пожилой бульдозерист, сказал, что она на четвертом месяце и это, должно быть, не роды, а преждевременное, то есть выкидыш. Успокаивая кричащую дочь, он бормотал какую-то чепуху насчет мамки-покойницы, у которой была «такая же петрушка» — повредилась через сильную работу, и ничего, обошлось. А что обошлось? Бедную девку ломало и корчило на кошме. Лицо ее стало как земля. Она совсем обезумела от боли. То она просто кричала: «А-а!», то, когда боль чуть отпускала ее, проклинала кого-то с бешеной силой.
Мы вышли из палатки и стояли возле костра, оцепенев от этих ужасающих воплей, и не знали, что делать. Ребята говорили про того парня, от которого она ждала ребенка. Говорили, что хорошо бы его, гада, сюда и пусть бы послушал.
Ермасов вдруг набросился на Гохберга:
— Кто разрешил ей сесть на бульдозер?
— Я! Я! — заросший черной щетиной Байнуров стучал себя в грудь.
— Вы что — идиот? Нечего ждать, надо везти в больницу! Доставайте машину! Где хотите!
Машин не было. На ермасовском газике увезли Карабаша, а газик самого Карабаша ушел утром в Мары: кассир поехал за деньгами. Байнуров погнал в Инче трактор и через четыре часа вернулся оттуда с машиной. Был уж светлый день, солнце стояло высоко, освещая бурые горбы барханов, дамбу, наполовину опустевший временный лагерь бульдозеристов.