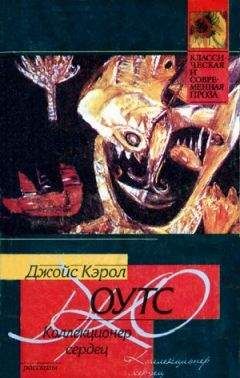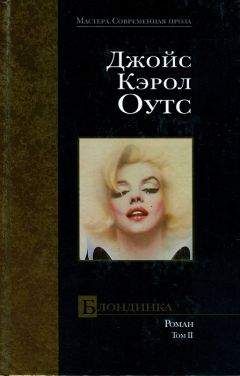Макбрайд вежливо предложил Дженетт довезти ее до дома, и она ответила: да, огромное вам спасибо, – и называла при этом почтительно, как и все остальные студенты, – доктор Макбрайд.
Они двинулись к «фольксвагену» Макбрайда, припаркованному на ближайшей стоянке. Под ногами, обутыми в сапоги, звонко похрустывал снег. Ночь стояла холодная – минус десять по Фаренгейту. Но безветренная – сухой и пронзительно холодный воздух щипал ноздри, и глаза от него сердито слезились. Изо рта вырывались белые облачка пара, и Дженетт казалось, что это придает встрече еще большую интимность. Когда Дженетт поскользнулась на заледеневшей дорожке, Макбрайд пробормотал: «Эй, осторожнее!» – вовремя подхватил ее, и она удержалась на ногах. От прикосновения его руки в перчатке к грубой и ворсистой ткани парки голова у нее закружилась, и показалось, что она вот-вот потеряет сознание. А он меж тем в присущей ему оживленной манере обсуждал сегодняшнюю репетицию, которая прошла хорошо, мало сказать, просто замечательно, принимая во внимание сложность музыки Баха и отсутствие в хоре достаточно сильных голосов. Одной из его излюбленных фраз, которую он произносил суховато, но с оттенком братской признательности к певцам, была: «Мы вроде бы подбираемся к сути, верно?»
Безветренную холодную ночь бледно освещала зависшая высоко над их головами луна. Безумный глаз луны… При взгляде на нее у Дженетт заболели глаза, точно она, сама того не ведая, проплакала подряд несколько часов. Буду тебя ждать. Смотри не слишком задерживайся, Дженетт, ладно? Не шляйся по ночам.
Нет, мама. Куда мне еще идти?
И вот вам пожалуйста: они забираются в машину Макбрайда, посмеиваясь над собственной неловкостью, слишком длинными ногами; Макбрайд спрашивает Дженетт, где она живет, поскольку, понятное дело, не имеет об этом ни малейшего представления; и Дженетт объясняет ему, а он начинает расспрашивать, далеко ли это от ущелья, и она отвечает: нет, недалеко, но по ту сторону от него. И тогда он говорит, что она будет подсказывать ему дорогу – он не слишком знаком с этой частью кампуса. Сам он живет в восточной его части.
Они выехали со стоянки и, свернув на боковую улочку и проехав несколько кварталов, оказались у моста, совершенно безлюдного в этот час. Того самого моста, по которому восемь часов назад проезжала в своем свинцово-сером «додже» миссис Харт. Моста, где с ними вполне мог произойти несчастный случай, стоило машине резко вильнуть в сторону, сбить ограждение и свалиться в замерзшую реку. Но по счастью, ничего подобного не случилось. Лишь у Дженетт учащенно забилось сердце, и еще она поняла, что Макбрайд почувствовал это.
От реки, как и от ущелья, поднимались тонкие столбы тумана, дрожали и плыли в воздухе. Они казались нереальными, будто во сне, нежными и воздушными, как кружево или само дыхание, непрочными, потому что таяли прямо на глазах. И Макбрайд, ведя свой послушный, точно детская игрушка, автомобиль, заметил небрежно:
– Господи, до чего ж тут красиво, правда? Северная часть штата Нью-Йорк, я чувствую себя здесь прямо как в Арктике. Ведь я, знаете ли, родом из Бруклина, для меня все здесь в новинку.
Прежде Дженетт никогда не слышала, чтобы этот мужчина говорил так много, и уж тем более на сугубо личную тему.
Макбрайд, следуя указаниям Дженетт, свернул влево, потом снова влево и приблизился к Саут-стрит, вьющейся вверх по холму. Вначале он твердо вознамерился не обращать внимания на слезы Дженетт. Ибо все это время та плакала робко и почти неслышно, при желании можно было и не замечать вовсе. Поскольку девушкой она была воспитанной, тихой и сдержанной, любовников у нее не было, и она, пожалуй, даже ни разу не влюблялась по-настоящему. И это Макбрайд тоже знал, вернее, чувствовал. Что, впрочем, и понятно, ведь он был одиннадцатью годами старше и обладал более богатым жизненным опытом.
Но вот наконец он не выдержал и спросил:
– Послушайте, Дженетт, в чем дело? Что такое с вами случилось?
И это было подобно броску в воду, слепому и внезапному погружению в нее, когда вдруг проваливаешься через тонкую треснувшую корку льда, и шаг этот непоправим, и обратного пути уже нет. Такое может случиться лишь раз в жизни, и этого одного раза с лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь. Только в эту секунду Дженетт поняла, что плачет.
– Я не могу туда вернуться, к себе в комнату! Пока нет. Просто не в силах…
Доктор Макбрайд уже тормозил, резко надавил на педаль тормоза, машина завертелась на посыпанном солью льду, но удержалась на дороге. Они сидели бок о бок, сначала совершенно неподвижно и даже не глядя друг на друга. Дженетт уже рыдала в полный голос и никак не могла остановиться.
– Ладно, – сказал Макбрайд. – Нам совсем не обязательно туда ехать. Можно придумать кое-что получше.
Макбрайд привез Дженетт к себе на квартиру, где они и провели ночь.
И все это было совершенно непредсказуемо и произошло чисто случайно.
Макбрайд женился рано, по юношеской опрометчивости, и вскоре развелся. С тех пор опыта у него прибавилось: он научился не впутываться в сомнительные истории, а уж тем более с девушками-студентками, многие из которых были в него влюблены и всячески демонстрировали это. И чем же он занимался теперь? Тихо и осторожно ввел испуганную, дрожащую девушку в темную квартиру; надо сказать, он и сам страшно нервничал, словно в руки ему попала музыкальная композиция, которой он прежде никогда не слышал. И вот его вытолкнули на сцену перед огромной аудиторией, все ждут, когда он начнет играть, и он неуклюже держит музыкальный инструмент в руках, выставленный на посмешище публики. Однако одновременно со страхом и неуверенностью он испытывал возбуждение, даже прилив неведомого прежде счастья. О, как счастлив он был, и как тихонько и легкомысленно хихикала Дженетт, когда он разливал по бокалам красное вино и видел, как дрожит при этом его рука, почти как у нее. Дженетт хотела сказать: «Никогда не пила этого прежде», – но у нее вырвались другие слова:
– Никогда не делала этого прежде!
Она отпила глоток, ощутила в скованном страхом рту терпкий привкус перезрелого фрукта; чернильного цвета жидкость разлилась во рту, согрела гортань, потом тепло устремилось вниз, по груди, до самого желудка. И она не понимала, каково оно на вкус, это вино, восхитительно сладкое или горькое, или то и другое вместе.
Вдруг, набравшись храбрости, Дженетт заговорила. Слова лились потоком. Она говорила, что любит его, доктора Макбрайда. Влюблена в него… уже очень давно. Голос был слабым, еле слышным. Макбрайд робко примостился рядом с ней, начал поглаживать руку – рука была неподвижная и холодная.
– Я знаю, мне должно быть стыдно, – самым несчастным тоном произнесла Дженетт. – Понимаю, что не следовало говорить этого вам.
В ответ на это Макбрайд со смехом заметил:
– А кто же тогда скажет, позвольте спросить?
В конце концов они оказались в спальне Макбрайда и лежали, сплетясь в мучительно-сладких объятиях у него в постели. Возможно, Макбрайд почувствовал, что Дженетт явно чего-то недоговаривает – она ведь так и не объяснила, почему оказалась здесь, почему именно сегодня. Просто все произошло слишком быстро, хоть он и был старше и разбирался в этих вещах лучше. И вдруг Дженетт попросила:
– Пожалуйста… займитесь со мной любовью. Это не означает, что вы должны любить меня. – И в голосе ее звучала почти детская мольба.
Макбрайд страшно растрогался, начал покрывать поцелуями ее веки, говорить ей, какая она красивая, но не занимался с ней любовью, нет, видно, просто не решался. И тогда Дженетт сказала:
– Мне достаточно того, что я люблю вас, вам вовсе не обязательно любить меня, нет, правда, честное слово!
Макбрайд ответил:
– Что ж, может быть.
И они лежали на кровати Макбрайда, вспотевшие, полураздетые, задыхаясь от страсти и волнения. Происходило все это словно в полусне – голова кружилась, и было так приятно и сладко! Дженетт показалось странным, что она испытывает эти чувства в объятиях почти что незнакомца – такое всеобъемлющее, захватывающее дух счастье. Должно быть, это и есть любовь. И она еле слышным шепотом произнесла его полное имя, такое чудесное, замечательное имя: Майкл Макбрайд.
В этой чужой незнакомой ей комнате, где было бы совсем темно, если бы не луна, робко заглянувшая к ним через незашторенное окно.
Когда позже Дженетт проснулась, ощущая, как кружится у нее голова – наверное, от вина, – в комнате было все еще темно. Рядом на тумбочке слабо мерцал темно-зеленый циферблат будильника, часы показывали 6.15. Где она, что натворила? Она осторожно высвободилась из-под навалившегося на нее тела крепко спящего мужчины, поднялась с постели, скользнула в соседнюю комнату, где все еще горела настольная лампа. Здесь же валялись ее вещи: парка, варежки, сапоги. На журнальном столике, заваленном газетами, журналами и книгами, стояли две бутылки вина, одна была пуста, другая выпита до половины. «Что я наделала, что теперь будет?»