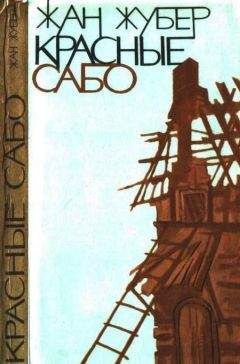Симону я считаю женщиной авантюрной складки — в самом благородном понимании этого слова, но, боюсь, ей все же не понравится, что я так написал о ней. Хорошо, скажем по-другому: женщина, полная жизненных сил, идей и проектов, она легко воспламенялась надеждами, мужественно переносила неудачи, бурно рыдала и мгновенно утешалась в горе, и всегда у нее была про запас веселая шутка. Про нее говорили: «О, Симона — настоящий философ!» Она резко отличалась от остальных родных, скорее домоседов, несколько неврастеничных по натуре, что в юности было не очень заметно, а под конец жизни проявлялось открыто. У них бывали приступы черной меланхолии, которая выказывалась в их словах, в их жестах. По любому поводу поминали смерть. Поругавшись с дочерью, Мина всегда заканчивала криком: «Не беспокойся, не долго уж тебе осталось меня терпеть!» В течение тридцати лет я слушал, как отец утверждал, что ему «до старости не дотянуть», а тетя Ивонна, переехав в дом напротив кладбища, тут же заметила: «Что ж, так оно и проще будет, вам останется только перебросить меня через стену!» Впрочем, все это говорилось не таким уж мрачным тоном, даже с насмешливым подмигиванием, но дела нисколько не меняло: душа их была во власти наваждений и кошмаров. Вот и Алиса в последние годы жизни никого не хотела видеть, ей казалось, что все ее преследуют, подстерегают, ненавидят и желают ей смерти — и соседки, и торговцы.
— Знал бы ты, чего только они обо мне не говорят, какие гадости делают! — жаловалась она мне, показывая на дыру в изгороди. — Вон, видишь, отсюда они за мной следят!
Так поднимались со дна души черные наносы.
А вот у Симоны — ничего похожего, и если ей случалось говорить о смерти, то она предпочитала быть карающей десницей, нежели жертвой.
— Знаешь, — сказала она мне однажды с мечтательным видом, — я очень любила резать кроликов. Убивать — значит жить. Смерть — это жизнь.
В ту минуту, надо признать, она до того меня поразила, что я только ошарашенно смотрел на нее: пухлые щеки, восемьдесят кило веса, вся круглая, как клубок шерсти, живая и непоседливая, как кошка. Я на мгновение задумался, как далеко может завести ее эта посылка: «убивать — значит жить»? Но я достаточно хорошо знал ее мирный нрав, знал, что она совершенно безобидна во всем, что касается рода человеческого. Кролики — дело другое: нечего тут лицемерить! Надо смотреть правде в лицо, к чему останавливаться на полдороге? И, подумав немного, я счел ее афоризм «смерть — это жизнь» достаточно глубокомысленным.
Да, несомненно, жизнь так и бурлит в ней: она любит вкусно поесть, выпить хорошего вина, поболтать, поездить по свету. В свои шестьдесят восемь лет она настоящее чудо! Чем только она не занималась в жизни: работала на фабрике, выращивала ангорских кроликов, была садовницей, бакалейщицей, кабатчицей, прислугой, консьержкой, сиделкой, — не говоря уже о том, кем она была в мечтах. Трижды выходила замуж: первый муж оставил ее вдовой в двадцать три года с дочуркой Сильвией на руках; со вторым она промучилась некоторое время и в конце концов развелась; с последним — Альсидом — она живет и поныне в своем блочном доме, слегка присмиревшая к старости. Еще несколько лет назад из ее окон открывался вид на канал и росшие на берегу тополя; теперь метрах в двадцати от ее дома встали стеной высотки, закрывшие от нее весь пейзаж. Но она утешает себя тем, что всегда можно заглянуть в окна соседей напротив.
В ее квартире все сплошь — и стены, и потолки — оклеено обоями в крупных цветах: в кухне царит желто-зеленый цвет, спальня — синяя, гостиная — в огненно-красных пионах всех сортов и видов. И чистота как на голландской барке; а вот и Альсид в кресле у окна, с недвижно вытянутой ногой.
Я спрашиваю:
— Ну как, не лучше ноге?
— Ничего, терпимо. Вообще-то дрянь дело! Но могло быть и хуже!
Симона садится напротив меня — платье на ней тоже цветастое — и кладет ладони на стол, покрытый клеенкой.
— Что же тебе рассказать, а?
Семейный музей она у себя заводить не собирается: ведь в доме нет ни погреба, ни чердака; а в том постоянном вихре, которым была вся ее жизнь, она могла перевозить с собой лишь небольшое число семейных реликвий: кое-что из мебели, из вещей, из посуды и белья, уподобляясь тем кочевникам, которые весь свой скарб таскают с собой в одном-единственном сундучке или чемодане. Воспоминания хранятся в ее голове и в трех обувных коробках, которые она как раз и открывает передо мной, слегка облизываясь, будто собирается извлечь оттуда какое-то лакомство. Она роется в них и, видимо желая сделать мне приятное, вытаскивает оттуда мои книги, заботливо упакованные, обернутые в коричневую бумагу, фотографии и открытки, которые я присылал ей, извещения о рождении моих детей, несколько газетных статей, где говорится обо мне.
— Вот видишь — это твой уголок!
Я тронут, я бормочу какие-то слова, и она, явно довольная произведенным эффектом, укладывает свои реликвии обратно.
— Ладно, это ты видел. Но тебе нужно другое. Ага, вот что тебе будет интересно. Помнишь, он висел в спальне у Мины, над кроватью?
Это та самая фотография в черной рамке, портрет ее отца в возрасте сорока пяти или, может, пятидесяти лет, сделанная, вероятно, как раз в то время, когда он строил дом: красивое лицо с тонкими правильными чертами — мой отец очень походил на него, — остроконечные усы, насколько можно судить по фото, пшеничного цвета, лоб с залысинами и светлые, скорее всего голубые, глаза.
— Да, голубые, — подтверждает Симона. — Знаешь, он был такой мягкий, обходительный, но, по правде говоря, мы его почти что и не видели. Он работал с утра до ночи то на заводе, то в лесу, а под конец своей жизни — на постройке дома. Да, он и вправду был славный человек, не то что Мина — та, чуть что, начинала злиться и на оплеухи не скупилась! Бывало, как напустится на меня: «Ах ты дубовая башка!» — да за мной через кухню, а я от нее удираю поскорей за дверь. Признаться, она частенько бывала права: со мной нелегко было, вечно я дерзила, перечила, а уж до чего упряма, просто страх!
— А твой отец, он что, строил дом совсем один?
— Да, можно сказать, один. Одно время ему подсобляли два солдатика. Такие молоденькие. Я их хорошо помню: на ногах обмотки, вещевой мешок за плечами. Уж не знаю, откуда они взялись. Наверное, отпускники, хотели подработать немножко, ведь война-то уже шла к концу. Твой отец воевал где-то в Дарданеллах, в Галлиполи, уж и не припомню. Да в общем-то, если их не считать, один и построил!
Он возвращается вечером, по холодку, когда лягушки на реке заводят свой концерт, возвращается после рабочего дня на заводе. Вешает сумку и куртку на гвоздь в маленьком дощатом сарайчике, где держит свой инструмент, и, присев там на ящик, дает себе минут пять роздыху. Сидит, расставив колени, и скручивает сигарету, тщательно облизав бумагу и примяв ее большим пальцем. Собрав со своих плисовых штанов просыпавшиеся крошки табака, ссыпает их с ладони обратно в резиновый кисет, потом щелкает зажигалкой и закуривает. И тогда усталость немного отпускает его и по всему телу разливается покой, и только тут, словно внезапно включили звук, до его слуха доносится лягушачий хор. Иногда на кучку шлака вспрыгивает кошка, и тогда несколько секунд человек и животное безмолвно смотрят друг на друга. Налетевший ветер ерошит листву в кустах, и он думает: «Тут надо будет расчистить местечко для сада. В глубине я устрою курятник и клетки для кроликов, а там, подальше, в овраге, выкопаю прудик и напущу туда рыбы. На берегу посажу ивы, они растут быстро, и тень от них густая. Да, славно будет. Но сперва надо построить дом! Ладно, пора за работу!»
Он встает, натягивает рабочий комбинезон, который от цемента совсем затвердел, и, разомкнув створки литейной формы, похлопывает ладонью по готовым кирпичам, проверяя, хорошо ли они подсохли. Вынув кирпичи из форм, он не спеша замешивает новую порцию песка, цемента и шлака и заполняет смесью формы на завтра. Потом, разведя в твориле известь, он ряд за рядом выводит кладку, снимая мастерком излишки раствора. Сумерки сгущаются, и только тогда он прекращает работу, а порой он продолжает класть кирпичи в полной темноте, ощупью продвигаясь по строительным лесам и приговаривая: «Господи боже, вот бы мне лампу сюда!» — пока не появляется внизу, среди строительного мусора, его жена и не кричит ему — зло или не очень, смотря по настроению:
— Чего ты тут возишься в такой темноте? Иди-ка лучше домой спать! Ведь тебе завтра вставать в четыре утра!
— Иду-иду, еще минутку!
— Вот несчастье-то, ей-богу!
Он в полной темноте спускается с мостков, складывает свои инструменты и навешивает замок на дверь сарайчика.
Они молча идут домой по песчаной тропинке между садами, где порой, заслышав их шаги, взлаивают собаки. В темноте над ними с шуршанием проносятся летучие мыши. От реки и болота поднимается молочный туман.