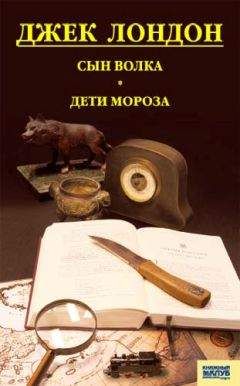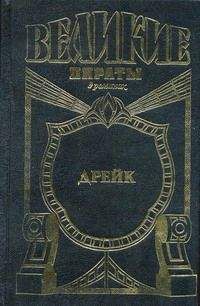— А какое право он имел, черт возьми, трогать мою жену? — гремел Бэттлс в ответ на дружеские увещевания. — Нечего было ее трогать, нечего было ее трогать, — повторял он упрямо, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэна.
А Лон Мак-Фэн, с красным лицом и заплетающейся речью, поднял целое восстание против Церкви.
— Ладно, отец! — кричал он. — В таком случае я с легким сердцем завернусь в огненное одеяло и лягу на постель из раскаленных угольев. Но никогда и никто не скажет, что Лон Мак-Фэн проглотил оскорбление и даже руки не поднял в защиту. И не надо мне вашего вечного блаженства. И просить не буду. Тяжелая у меня была жизнь, но сердце всегда было на месте, вот что.
— Только не сердце, Лон, — возразил отец Рубо. — Это гордость толкает тебя на то, чтобы убить ближнего.
— Французские тонкости, — ответил Лон. И потом, собираясь уже отойти, прибавил: — А панихиду будете служить, если мне не повезет?
Священник только улыбнулся и занял место впереди. Все ринулись за ним на широкую грудь молчаливой реки. Утоптанная маленькими санками тропинка вела к проруби. По обе стороны лежал глубокий нежный снег. Люди шли друг за другом и не разговаривали, а присутствие священника, одетого в черное, придавало шествию торжественный вид похоронной процессии. Это был теплый день для Сороковой Мили. Небо, переполненное своею тяжестью, ближе наклонилось к земле, а ртуть поднялась на необычайную высоту — двадцать ниже нуля. Но ничего радостного не было в этом тепле. Воздух был тяжелый, а облака висели неподвижно, обещая ранний снег. И земля, погруженная в свою спячку, относилась к этому совершенно равнодушно.
Когда дошли до проруби, Бэттлс, который во время пути, очевидно, еще раз вспомнил всю ссору, выпалил последний раз свое — «нечего было ее трогать», а Лон Мак-Фэн злобно молчал. Возмущение душило его, и он не мог говорить.
Несмотря на то что оба противника были очень заняты своими обидами, их очень удивляло поведение товарищей. Они ожидали насильственного вмешательства, и такое молчаливое разрешение почти оскорбляло их. Как будто они могли рассчитывать на нечто большее со стороны людей, с которыми так сжились, и в их душе поднималось неясное чувство обиды: друзья идут сюда, как на какое-то парадное представление, и станут смотреть — без одного слова протеста — на то, как они убьют друг друга. Как будто они уже потеряли всякую ценность в глазах коммуны. Все происходящее совершенно озадачивало их.
— Ну, спиной к спине, Дэвид. И какое вы хотите расстояние? Пятьдесят или вдвое?
— Пятьдесят, — был злобный и короткий ответ.
Но вдруг свежая веревка, отнюдь не выставляемая напоказ, а просто обмотанная вокруг руки Мельмут Кида, привлекла внимание ирландца и вызвала в нем неопределенную тревогу.
— А на что тебе веревка?
— Ну, живее, — Мельмут Кид посмотрел на часы. — У меня тесто поставлено, и я вовсе не хочу, чтобы оно перекисло. Да и ногам холодно.
Все остальные тоже на все лады выказывали нетерпение.
— Но все же веревка-то зачем, Кид? Она совсем новая, и я думаю, что твой хлеб не такой уже и тяжелый, чтобы его поднимать веревкой.
Бэттлс оглядывался по сторонам. Отец Рубо, чувствуя, что комизм положения захватывает его, закрыл лицо рукавицей.
— Нет, Лон. Эта веревка не для хлеба, а для человека. — Мельмут Кид умел производить впечатление, когда это было нужно.
— Какого человека? — Бэттлс почувствовал вдруг ко всему происходящему какой-то интерес.
— Для второго.
— Для какого второго?
— Послушай, Лон, и ты тоже, Бэттлс. Мы поговорили тут немножко о ваших глупостях и решили вот что. Мы знаем, что остановить вас не имеем права…
— Я думаю, милый мой!
— Мы и не собирались. Но одну вещь мы можем сделать. Не только можем, но и должны. Мы должны сделать, чтобы эта дуэль осталась единственной в истории Сороковой Мили и чтобы это было на вечные времена уроком для всех «че-ча-квас'ов», какие едут вверх или вниз по Юкону. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на ближайшем дереве. А теперь можете начинать.
Лон подозрительно усмехнулся, но потом лицо его просветлело, и он воскликнул:
— Отмеривай, Дэвид, пятьдесят шагов! И мы будем стрелять, пока кто-нибудь не упадет по-настоящему. Они не посмеют этого сделать! Это просто так, шуточки янки!
Он занял свое место с веселой улыбкой на лице, но Мельмут Кид остановил его.
— Лон, ты меня давно знаешь?
— Да, порядочно.
— А ты, Бэттлс?
— В высокую воду, в июне, будет пять лет.
— А было ли хоть раз за все это время, чтобы я не сдержал своего слова? И говорил ли вам это кто-нибудь?
Оба покачали головами, поглядывая на веревку, которая лежала рядом.
— Ладно. Так если я вам обещаю что-нибудь, вы поверите?
— Поверю, как твоей подписи, — сказал Бэттлс.
— Поверю, как в спасение души и во все святые слова, — прибавил поспешно Лон Мак-Фэн.
— Так слушайте! Я, Мельмут Кид, даю вам мое слово, — а вы знаете, что это значит, — что тот из вас, который не будет застрелен, повиснет вот на этой веревке ровно через десять минут после своего выстрела.
И он отошел назад, как Пилат, умывающий руки.
Все молчали. Небо опустилось еще ниже, и на землю полетели тонкие иглы мороза — правильные геометрические фигурки, нежные и легкие, как дыхание, но которые будут лежать всю долгую полярную зиму, пока не вернется солнце. У обоих в прошлом было зарыто много разбитых надежд, зарыто с проклятием или с насмешкой, но в душе всегда оставалась все же вера в бога — в Фортуну. Но эта милая усердная богиня была на этот раз исключена из игры. Они внимательно изучали лицо Мельмут Кида, но оно было так же таинственно, как лицо Сфинкса. Когда прошло несколько минут, все почувствовали, что надо заговорить. Наконец, молчание было прервано воем собаки со стороны Сороковой Мили. В этом диком вое был какой-то невероятный пафос отчаяния, потом он перешел в протяжное рыдание и постепенно замер.
— Охота рисковать, тоже! — Бэттлс поднял воротник своей куртки, растерянно выглядывая из него во все стороны.
— Великолепно сыграно, Кид! — воскликнул Лон Мак-Фэн. — Вся выгода банкомету, а играющим ни шиша! Да? Самому дьяволу так не сыграть, и черт меня возьми, если я ввяжусь в это!
На обратном пути, пока взбирались на обледенелый берег и шли по улице до Поста, нет-нет да и раздавались подозрительные покашливания, вроде застрявших в горле смешков, и все почему-то очень часто мигали, смахивая свет с ресниц. И вдруг снова раздался вой собаки, но уже совсем близко, и в нем были новые, угрожающие ноты. Какая-то женская фигура выскочила из-за угла. Кто-то крикнул: «Вот он, вот!» Индианский мальчик, окруженный полдюжиной перепуганных собак, задыхаясь, бежал к ним со всех ног. А позади всех, ощетинившись, несся серой молнией Желтый Клык. Все бросились бежать, кроме американца. Мальчик споткнулся и упал. Бэттлс остановился на мгновение, схватил его за шиворот и бросился к штабелям дров, куда уже взобрались некоторые из его товарищей. Желтый Клык, преследуя одну из собак, тоже повернул назад. Обезумевшее от страха животное сбило Бэттлса с ног и понеслось по улице. Мельмут Кид выстрелил. Желтый Клык перевернулся в воздухе, опрокинулся на спину, вскочил и одним прыжком бросился на Бэттлса.
Но этот роковой прыжок был предупрежден Лоном Мак-Фэном, который соскочил с дров и перехватил собаку на лету. Оба покатились в снег. Лон крепко держал животное за горло на вытянутых вперед руках, а все лицо его и глаза были залиты брызгами вонючей собачьей слюны. Наконец Бэттлс, спокойно с револьвером в руке выжидавший подходящего момента, закончил схватку.
— Вот это была настоящая игра, Кид, — заметил Лон, поднимаясь на ноги и стряхивая снег с рукавов. — Тут и я заработал недурной процент.
Ночью, когда Лон Мак-Фэн, стосковавшись о всепрощающих объятиях Церкви, устремился в хижину отца Рубо, Мельмут Кид долго еще обсуждал случившееся.
— Да разве бы ты сделал? — приставал Маккензи. — Ну, предположим, они бы стреляли?
— А разве я когда-нибудь изменял своему слову?
— Нет-то нет, да я не об этом. Ты мне отвечай на вопрос. Мог бы ты или нет?
Мельмут Кид встал.
— Знаешь, Скрэф, я все время сам задаю себе этот вопрос и вот…
— Ну?
— Ну и вот — до сих пор ничего не мог ответить.
Когда человек решается ехать в далекую страну, он должен быть готовым забыть очень многое из того, чему его учили с детства, и, наоборот, усвоить многие новые привычки, соответствующие новым условиям жизни; он должен оставить старые идеалы и старых богов и очень часто даже перевернуть вверх дном весь моральный кодекс, каким до этого времени руководствовался. Для людей, обладающих приспособляемостью простейших организмов, новизна такой перемены доставляет даже наслаждение; но для тех, кто уже окончательно сформировался в определенной среде, гнет изменившихся условий жизни совершенно невыносим; они сгибаются и душой и телом от непредвиденных лишений, принять которые они не могут, и этот надлом, связанный всегда с попытками противодействия, часто является для них источником самых разнообразных несчастий. Для таких лучше всего, конечно, как можно скорее вернуться опять на родину, затяжка неминуемо приведет их к гибели.