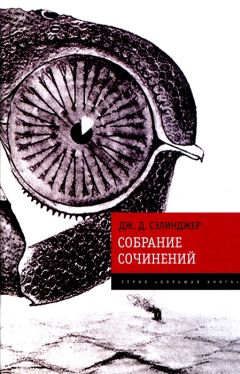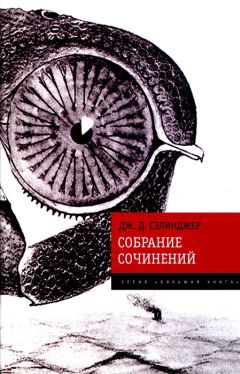Ладно, в общем, про это я и написал Стрэдлейтеру сочинение. Про эту перчатку Олли. У меня она в чемодане нашлась, я ее вытащил и списал с нее стихи. Только надо было Олли имя поменять, а то доедут, что это мой братец, а не Стрэдлейтера. Не очень в жилу было его менять, но ничего другого наглядного я так и не придумал. А кроме того, писать про это было, с понтом, зашибись. Где — то около часа ушло, потому что печатать надо было на паршивой машинке Стрэдлейтера, а она у меня все время заедала. На своей я не печатал, потому что дал ее одному парню дальше по коридору.
Где-то пол-одиннадцатого, наверно, закончил. Но ни устал, ничего, поэтому еще сколько-то смотрел в окно. Снег больше не шел, только время от времени где-то машина никак не заводилась. Да еще слышно было, как этот Экли храпит. Добивало через все эти, нафиг, душевые шторки. У него чего-то с пазухами, поэтому когда спит, дышать ему не в жилу. С этим парнем вообще все не так. Пазухи, прыщи, зубы паршивые, изо рта воняет, ногти захезанные. Даже как-то жалко падлу эту долбанутую.
6
Бывает, какую-то фигню вспомнить трудно. Я вот думаю, как Стрэдлейтер вернулся со своей свиданки, которая с Джейн. В смысле, я точно не помню, чего делал, когда услышал эти его дурацкие, нафиг, шаги по коридору. Наверно, еще в окно глядел, но честно — я не помню. Потому что, нафиг, колотился. Если меня насчет чего-то по серьезу колотить начинает, я не шибаюсь просто так. Если меня колотит, мне даже отлить хочется. Только я не отливаю. Меня слишком колотит. И я не хочу отвлекаться. Если б вы знали Стрэдлейтера, вас бы тоже заколотило. Я с этим гадом пару раз на спаренные свиданки ходил, я в курсе. Он беспринципный. По-честному.
В общем, в коридоре там сплошь линолеум и всяко-разно, поэтому слышно его было, нафиг, до самой комнаты. Я даже не помню, где сидел, когда он зашел, — возле окна, у себя в кресле или у него. Честно не помню.
Он заходит и давай гундеть, какая на улице холодрыга. Потом говорит:
— А где, нахер, все? Тут, нафиг, как в морге.
Я даже отвечать ему не стал. Если он такой, нафиг, дурила и не соображает, что раз у нас суббота и вечер, все либо шляются где-то, либо дрыхнут, либо домой на выходные отвалили, — чего ради мне морочиться и его просвещать? Он стал раздеваться. Ни одного, нафиг, слова про Джейн не сказал. Ни единого. Я тоже. Только смотрю на него. Он мне хоть спасибо сказал за пидж. Определил его на вешалку и сунул в шкаф.
А потом, когда галстук развязывал, спрашивает, написал ли я ему это, нафиг, сочинение. Я говорю: у тебя на кровати, нафиг. Он пошел и стал читать, пока рубашку расстегивал. Стоит, читает и себя вроде как по голой груди и животу поглаживает, а рожа при этом дурацкая. Он себя вечно по груди и животу гладит. Прямо сохнет по себе.
И тут вдруг мне говорит:
— Холден, язви тебя. Это же, нафиг, про бейсбольную перчатку.
— И чего? — говорю я. Холодно так говорю, как не знаю что.
— В смысле — и чего? Я ж тебе сказал, надо про комнату, нафиг, про дом или еще как-то.
— Ты сказал, что надо наглядно. Какая, нафиг, разница, если про бейсбольную перчатку?
— Пошел ты к черту. — Он разозлился, как не знаю что. По — честному рассвирепел. — Ты вообще все через жопу делаешь. — Посмотрел на меня: — И чего удивляться, если ты тут, нафиг, провалился, — говорит. — Ты же, нафиг, ни шиша не делаешь, как надо. Без балды. Ни шиша, нафиг.
— Ладно, тогда давай его сюда, — говорю. Встал и выдернул сочинение прямо, нафиг, у него из руки. И порвал.
— Ты это на хера? — спрашивает он.
Я ему даже не ответил. Только клочки в мусорку выкинул. Потом лег на свою кровать, и мы с ним долго ничего не говорили. Он весь разделся, до трусов, а я лежал — а потом закурил. В общаге курить нельзя, но если ночью, когда все дрыхнут, или нет никого и никто дым не нашмыгает, то можно. Кроме того, мне хотелось позлить Стрэдлейтера. Его с тормозов просто сносит, если правила нарушаешь. Он-то в общаге никогда не курил. Только я.
И он по-прежнему ни одного слова про Джейн не сказал. Поэтому я в конце концов говорю:
— Ты, нафиг, что-то поздновато вернулся, если она только до полдесятого отпрашивалась. Это она, выходит, из-за тебя опоздала?
Он сидел у себя на кровати как раз, стриг, нафиг, ногти на ногах, когда я у него это спросил.
— На пару минут, — говорит. — Кому вообще в голову придет в субботу отпрашиваться только до полдесятого?
Ёксель-моксель, как же я его ненавидел.
— В Нью-Йорк смотались? — спрашиваю.
— Чокнулся? Как тут, нахер, смотаешься в Нью-Йорк, если она до полдесятого отпросилась?
— Да, туго.
Он на меня пялится.
— Слышь, — говорит, — если ты в комнате курить будешь, может, в тубзо пойдешь это делать? Может, ты, нахер, отсюда и сваливаешь, а мне придется до выпуска тут зависнуть.
Пошел он. По-честному. И я курил себе дальше, как ненормальный. Только на бок вроде как повернулся, чтобы смотреть, как он ногти себе, нафиг, стрижет. Что надо школа. Куда ни глянешь — кто-нибудь или ногти стрижет, или прыщи давит, или еще как-то.
— Ты ей привет передал? — спрашиваю.
— Ну.
Хрен там, гад.
— Чего сказала? — говорю. — Ты спросил, она по-прежнему дамок в задней линии держит?
— Нет, не спросил. Ты чего, нахер, думаешь, мы весь вечер чего — в шашки играли, язви тебя?
Я ему и отвечать не стал. Как же я его ненавидел.
— Так если в Нью-Йорк не летали, куда вы с ней тогда ходили? — спрашиваю я чуть погодя. Я едва сдерживался, чтоб голос на всю комнату не трясся. Ух как меня колотило. У меня так и было предчувствие, что у них там что-то не то стряслось.
Тут он ногти свои, нафиг, достриг. Встал в одних трусах, нафиг, и давай, нафиг, дурачиться. Подошел к моей кровати, нагнулся и ну меня в плечо дурогонски так фигачить.
— Кончай, — говорю. — Вы где с ней были, если в Нью — Йорк не ездили?
— Нигде. Сидели в машине просто, нафиг. — И долбанул еще разок, дурогон.
— Харэ, — говорю. — В чьей машине?
— Эда Бэнки.
Эд Бэнки в Пеней баскетболистов тренировал. Этот Стрэдлейтер у него в любимчиках, потому что в команде центровой, и Эд Бэнки, если надо, всегда ему давал машину. Учащимся вообще-то не разрешается брать у преподов машины, но все эти гады спортивные вместе кучкуются. Во всех школах, куда я ходил, спортивные гады — одна шайка-лейка.
А Стрэдлейтер мне все так же в плечо метил. У него в кулаке зубная щетка была, и он ее сунул в рот.
— И чего делали? — спрашиваю. — Оприходовал ты ее в машине Эда Бэнки? — А голос у меня дрожит — аж жуть.
— Ай-я-яй, как некрасиво. Ну-ка давай я тебе рот с мылом вымою.
— Да или нет?
— Это секрет фирмы, старичок.
Чего дальше было, я не сильно помню. Я только с кровати встал, с понтом, в тубзо или как-то, а потом попробовал Стрэдлейтеру заехать со всей дури — прямо в эту его щетку, чтоб она ему, нафиг, всю глотку раскроила. Только промазал. Недобил. Попал ему в висок там или куда-то. Может, и больно, а все равно не как мне хотелось. Может, и больнее было бы, но я вмазал ему правой, а она у меня нормально не сжимается. Из-за травмы этой, я вам говорил.
В общем, дальше я помню, что валяюсь, нафиг, на полу, а он сидит на мне, и рожа вся красная. То есть, не сидит даже, а колени мне на грудь поставил, а весит он тонну, не меньше. И руки мне прижимает, чтоб я, значит, еще раз ему не вмазал. Убил бы.
— Чего за херня, а? — талдычит он, а рожа его дурацкая все больше багровеет.
— Убери свои паршивые колени с моей груди, — говорю. Сам чуть не реву. По-честному. — Давай, двигай, урод захезанный.
А он ни в какую. Руки не отпускал мне, хоть я его обзывал падлой и всяко-разно часов, наверно, десять. Даже и не помню, что еще я ему говорил. Говорил, что он думает, будто может оприходовать кого захочет. Говорил, что ему наплевать, держит девка всех дамок в задней линии или нет, а наплевать ему потому, что он, нафиг, тупой дебил. Он терпеть не может, если его дебилом называют. Всем дебилам это не в струю.
— Пасть свою закрой, Холден, — говорит он, а у самого рожа дурацкая, багровая. — Заткни пасть и все, ага?
— Ты даже не знаешь как ее зовут, Джейн или Джин, нафиг, дебил ты!
— А ну заткнись, Холден, язви тебя в душу, — я тебя предупреди, — говорит он; так я его завел. — Если пасть не заткнешь, я тебе точняк пропишу.
— Убери свои вонючие дебильные колени с моей груди.
— Я отпущу, а ты хлебало свое больше не раскроешь?
Я ему и отвечать не стал.
Он давай еще раз:
— Холден. Я тебя отпущу, а ты орать больше не будешь, лады?
— Да.
Он с меня встал, и я тоже поднялся. Грудь у меня от его гнусных коленей болела, как не знаю что.
— Ты гнусная дурацкая падла даже, а не дебил, — говорю.