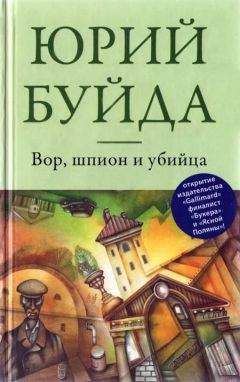Ознакомительная версия.
Отец быстрым шагом направился к дежурке.
Грузчики закурили. Все молчали.
Через пять минут отец вернулся. В руках у него была хозяйственная сумка.
— Начинайте, — сухо приказал он. — Коля… — К нему подошел Коля Полуторка, шофер. — Сгоняй в дежурку, возьми на все. — Отец протянул шоферу деньги. — Скажи Зине: я приказал.
Зиной звали продавщицу дежурного магазина.
Отец распахнул сумку, в которой лежали несколько бутылок водки. Грузчики пили из горла, сплевывали и брались за работу. Вообще-то так было принято: рабочие соглашались на ночные разгрузки — а они не останавливались и зимой — только под выпивку.
Минут через двадцать вернулся Полуторка, привез еще водки.
Работа уже шла полным ходом. Грузчики ломиками вываливали из вагонов связанные веревками пачки книг и на двухколесных тележках бегом отвозили в цех. Там книги подхватывали вилами женщины, которые швыряли пачки в жерло ревущей мельницы, где книги превращались в кашу, в пульпу — ее по трубам подавали на картоноделательную машину. Картон в рулонах поступал на толевый завод, где пропитывался пековой смолой и превращался в толь-кожу. Она использовалась как кровельный материал, а еще ею обматывали трубы газонефтепроводов.
Люди работали молча, с остервенением. Иногда кто-нибудь подходил к Полуторке, выпивал водки, наскоро выкуривал папироску — и снова за работу. Бригадиру Ковалайнену никого не приходилось подгонять — все работали как одержимые.
Сталина вываливали из вагонов, бегом отвозили в цех, бросали в ревущие мельницы, и снова, и снова, вагон за вагоном, молча, быстро, зло.
Когда зачистили четвертый вагон, отец взял меня за руку и мы пошли домой.
Сталин уходил из жизни как-то незаметно. Не помню, чтобы взрослые в городке много судачили о той ночи, когда с площади убрали большую статую Сталина, заменив ее маленьким бюстиком генералиссимуса Суворова. Отовсюду исчезли портреты Сталина. На первой моей школьной октябрьской демонстрации старшеклассники несли портрет нового героя — Гагарина. В разговорах взрослых имя Сталина всплывало очень редко.
Помню, как отец принес из фабричной библиотеки номер «Нового мира» с мемуарами генерала Александра Горбатова — об этих мемуарах тогда в городке говорили больше, чем об «Одном дне Ивана Денисовича». Как выразился сосед дед Семенов, «одно дело — заслуженного генерала железной палкой по пяткам, другое — какой-то черт знает кто баланде радуется». Но отчетливо помню, что первая встреча с Солженицыным — а это был «Один день» — не произвела на меня сильного впечатления. Когда я его читал, мне все-все казалось знакомым — не в деталях, конечно, а сама атмосфера, воздух. Обмолвки родителей, их друзей, какие-то намеки в каких-то книгах и фильмах (в «Живых и мертвых», «Чистом небе»), иногда — внезапное молчание отца, когда речь заходила о послевоенных годах… У Солженицына именно это — быт, повседневность, обыденность, самая пошлая заурядность жизни, пропитанная Сталиным, и есть самое сильное, самое страшное, а не статистика смертей и даже не ужасы ГУЛАГа.
Вскоре после той ночи на дебаркадере мы с отцом оказались на окраине городка, в громадном ангаре. Свет в ангар попадал через узкие горизонтальные окошки, забранные сеткой, падал на чисто выметенный пол серыми пятнышками и угасал в углах. Посреди огромного пустого помещения на стуле сидел мужчина — я не сразу узнал Колю Полуторку. Он сидел неподвижно, поставив правую ногу на ящик, и курил. Стену перед ним занимал огромный портрет Сталина. Судя по окуркам на полу, сидел Коля тут давно.
Отец поздоровался.
— Знаешь, Василий Иванович, — после паузы проговорил Коля (который ко всем обращался на «ты»), — в нашей стране никому нельзя ставить памятники из бронзы — только из пластилина.
Коля Полуторка был легендарным человеком. Он был последним, кого похоронили на немецком кладбище, и на могиле его установили рулевую колонку с эбонитовым колесом — это все, что осталось от автомобиля ГАЗ-АА, Колиной полуторки.
После войны у нас по лесам было разбросано много всякой техники, брошенной немцами при отступлении. Директор бумажной фабрики ездил на роскошном серебристом «хорьхе», а милиционеры — на мотоциклах «BMW». В леспромхозе исправно служили автомобили с газогенераторными двигателями, а на полях трудились тракторы «Ланд-бульдог».
Но в начале шестидесятых директор фабрики пересел на «Победу», милиционеры — на «Уралы», а в леспромхозе появились «Татры».
Из автостарья в городке осталась одна полуторка. На ней развозили по домам упившихся мужиков и дрова для рабочих бумфабрики, доставляли продукты в детский сад и грузчиков к ночным эшелонам.
Именно на этой полуторке мой отец забрал из роддома жену с первенцем — так я впервые в жизни прокатился на автомобиле.
Не будь Коли, полуторка давно отправилась бы в утиль. Он изо дня в день пробуждал машину к жизни. Часами лежал под грузовиком, копался в двигателе, что-то подтягивал, подкручивал и красил, помогая себе при этом честным русским словом.
— Из одних запятых, зараза, состоит, из одних знаков запинания, — ворчал он. — Вот я тебе когда-нибудь точку-то поставлю…
Вечно перепачканный в машинном масле, взъерошенный, с грозно торчащими рыжими усами, с самокруткой в зубах, в галифе и хромовых сапогах, он бился за жизнь полуторки с такой яростью, словно это была его собственная жизнь.
Коля Полуторка умел за две секунды свернуть «козью ножку», побриться без порезов, держа лезвие в щепоти, и виртуозно делал «вертушку»: откупорив четвертинку водки, взбалтывал содержимое и запрокидывал голову, позволяя раскрученной водке самой — по спирали — проникнуть в его организм и не делая при этом ни одного глотка. В те годы не такой уж редкостью были случаи, когда шофер и инспектор ОРУДа заказывали в придорожном буфете по сто «с прицепом» (с кружкой пива), выпивали за здоровье друг друга и мирно разъезжались.
Его жена умерла от мистической болезни — от рака, так и оставшись бездетной. Тяпнув рюмку и пригладив волосы, Коля что ни день выходил на охоту. Огромный, громогласный и голубоглазый, он пользовался успехом у гладких вдов, шалых баб да и вообще не давал спуску зазевавшимся женщинам. Его много раз пытались побить, но Коля в драке был лют и стоек — никому так и не удалось отвадить его от чужого женского добра.
Однажды цыгане-поножовщики решили проучить Семерку за строптивость. Коля вышел в одиночку им навстречу, рванул рубаху на груди и заорал: «Сперва моего мяса попробуйте!» И цыгане отступили.
Наконец пришло время, и полуторку отправили в отставку, позволив, впрочем, послужить катафалком, пока сама концы не отдаст.
В день похорон задний борт откидывали, ставили в кузов гроб с покойником, за машиной выстраивались родственники, за ними — оркестр во главе с вечно пьяным Чекушкой, а следом вытягивалась процессия — привыкающие к смерти старушки в плюшевых жакетах, соседи, мятежная баба Буяниха в пальто со шкурой неведомого зверя на воротнике, беспричинные люди — пьяницы, которые надеялись напиться на поминках, дурак Вита Смолокуров и дурочка Общая Лиза, бродячие собаки да какая-нибудь шалая коза с пучком травы в зубах…
Иногда двигатель полуторки глох, и машину приходилось толкать. Родственники, соседи и сумасшедшие дружно налегали, Коля матерился, оркестр играл что-нибудь бодрящее, бродячие псы лаяли, коза отчаянно блеяла, наконец мотор начинал стрелять и рычать, и шествие возобновлялось.
За несколько лет Коля отвез на кладбище чуть не всех своих дружков-фронтовиков.
О войне Коля, как и его друзья, не любил вспоминать. Когда его как-то спросили, что такое храбрость, он ответил: «Это когда срать больше нечем. Обосраться от страха можно только раз». Но после того как в фабричном клубе показали фильм «Бессмертный гарнизон» о защитниках Брестской крепости, Коля Полуторка напился и рассказал, что служил в составе 132-го отдельного конвойного батальона НКВД, который охранял тюрьмы в Бресте и окрестностях и обеспечивал депортацию «классово чуждых элементов», а утром 22 июня 1941 года первым вступил в бой с немцами и держался до последнего. На стене казармы этого батальона и была сделана знаменитая надпись: «Я умираю, но не сдаюсь». Коля выжил и даже не попал в плен. Служил в 10-й дивизии внутренних войск НКВД, известной тем, что она приняла на себя первый удар немцев под Сталинградом и сдерживала противника до подхода 62-й армии, потеряв три четверти состава, а потом обороняла Тракторный и высоту 102 — Мамаев курган.
Коля Полуторка умер, недотянув до пятидесяти: сердце.
Его хоронили при большом стечении народа, было много зареванных гладких вдов и шалых баб, впереди процессии несли подушечку с медалями «За отвагу» и «За победу над Германией» — никаких других наград у него не было.
Ознакомительная версия.