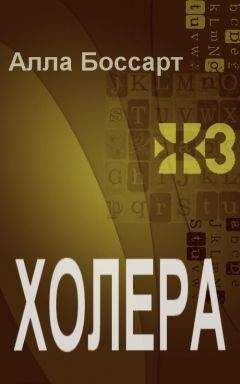Мужики топтались на захарканном асфальте в размышлении чего бы покурить, пытались подкатиться к вохре.
— Будь ты, бля, в натуре, человеком! — внушал одному Сахронов-Безухий. — Прошу тебя, как офицер офицера. Сгоняй за куревом! Под мою ответственность! У меня вошь не проползет, братан!
Охранник, широко расставив ноги и свесив локти с автомата, болтавшегося на шее, тупо смотрел в стену.
— Вот сука, — отступался Пьер. — Тебя бы, падла, в горы, к сепаратистам, ей-богу, сам бы отвел, не поленился…
— Что, Петя, — горюнился дядя Степа, жуя свои проникотиненные ржавые усы. — Не ведется, сучий потрох?
— Отвали, — огрызался Безухий и шел думать.
— Ишь, Чапай, блин! Стратех! — дядя Степа выгребал из карманов табачный мусор, обрывал чахлую сухую травку, растирал в пальцах, заворачивал в газетный клочок, слюнил, поджигал… — От, зараза, блин! — заходясь лающим кашлем, затаптывал самокрутку. — Мало не помер, сучий потрох!
Ржали. Развлечение.
Фома сидел неподалеку на корточках, привалившись спиной к стене, жевал спичку, глядел на них единственным тухлым глазом.
— Ржете, жиды? Рано веселитесь.
— Чо это он? — спросил у Чибиса Энгельс.
— Ты чо это? — обратился Чибис к Фоме, как толмач.
— Через плечо, блядь. Я сказал!
Белоруса Чибиса буквально мутило от таких, как Фома, доморощенных гауляйтеров. К тому же мама Чибиса прожила жизнь с фамилией Фельдблюм и до самой смерти помнила Гомельское гетто, откуда убежала к партизанам и встретилась с Игнатом Чибисом. Поэтому он недолго размышлял, прежде чем подойти к Фоме и, ногой в плечо, опрокинуть его на бок. И, поскольку удивленный Фома удобно расположился в позе эмбриона, Толик не удержался и с размаху, сзади въехал ему той же ногой по мошонке.
— Аа…уя…у!! — прорычал Фома. — Все, блядь. Ты покойник.
— Не факт, — ответил Чибис.
С обеих сторон к ним уже бежали охранники. Петя Безухий, человек, как-никак, военный (хоть до офицера, если честно, не совсем дотянул), похлопал Чибиса по плечу:
— Молоток, холера. И не ссы. Не тронет.
— Кто ссыт-то? — Чибис дернул плечом.
И в этот миг небо словно раскололось подобно яйцу, извиняюсь, конечно, и из этой трещинки полился, подобно прозрачному свежему белку, совершенно потусторонний голос.
Голос пел на нерусском языке и пел, безусловно, о любви, дрожа от страсти и забытого наслаждения. Амор, пел Кукушкин, амор мио соле, беллисимо амор, люблю тебя, мое солнце, мой прекрасный друг и брателло.
Трудно сказать, что произошло с Эдиком Кукушкиным в результате странного и неправдоподобного избиения Фомы вялым Чибисом. Что ощутил он, увидев свое возлюбленное животное схватившимся обеими руками за ширинку. Какие неземные чувства всколыхнули его исстрадавшуюся душу и весь его физический состав. Во всяком случае, к Кукушкину вернулись его божественный голос и силы, и он понял, что добьется любви поверженного циклопа.
Вторник 22 июня 2010 года оказался вдвойне знаменательным. Ну, во-первых, Гитлер со своим звериным коварством, о чем все знают, не упоминая при этом совершенно идиотского и даже параноидального поведения Сталина. А во-вторых — оранжевая цистерна с гофрированной трубой, так называемый элосос, не приехал.
Обычно говночист появлялся к шести утра. В десять вечера ждать перестали. Еще тревожней был другой знак: одарив больных на завтрак сероватой баландой, ни в обед, ни в ужин раздатчица их не навестила. Вообще в этот день никто в отделение не пришел. Толика даже не кололи. Дверь черного хода оказалась заперта, от нее ключами Карлсон не запасся.
Попахивало блокадой. «Это не просто дерьмо, — подумал проницательный Чибис. — Это запах смерти».
К ночи из палат многие повылезали в коридор. Больные галдели все громче, общий гвалт как-то незаметно перерос в митинг.
Петя Сахронов вспрыгнул на стол постовой медсестры и громовым голосом тугоухого закричал:
— Без паники, братва! Нас кинули. Я человек военный, и я так скажу. Когда враг рассеян в горах, его можно взять хитростью. Если он окопался за какой-нибудь, мать ее, крепостной стеной — его надо брать штурмом. Нам не оставили выбора. Нас здесь рыл пятьдесят, что мы, не высадим эти блядские двери?!
— Высадим!! — охотно подхватила братва.
— Вот, — Энгельс стукнул кулачком по ладони, — так и знал, что этим кончится! Видал, Толян, что делает, сукин сын! Нет, я скажу, они же в самом деле пойдут сейчас двери ломать… Подсади-ка…
— Да не лезь ты, не связывайся, тебя Фома, как муху, прихлопнет… — пытался удержать товарища Чибис, но Карлсон уже карабкался на стол.
— Мужики! Петя! Что ты гонишь? Автоматчики же в каждой дырке!
Безухий легко пихнул Севу в плечо и тот свалился на руки к Чибису.
— Не ссать, братва! Слушай меня. Автоматчики — херня. Никто без приказа стрелять не будет, тут больница, а не зеленка, ясно? Пуганут в воздух, да я его один разоружу!
— А кто сказал, что нет приказа? — крикнул студент Михалыч.
— Не вносить разброд! У кого очко играет, лезьте под шконку и сидите, как тараканы! Да я, если что, первый шмальну, чтоб ты знал, студент!
— Из чего же? — негромко спросил Энгельс.
— Найдется, не твоя забота.
— Большой арсенал-то, а, Безухий? Где хранишь?
Петя побагровел. Энгельс спрятался за Чибиса, как за граблю какую-нибудь.
— Слышь, братва, недомерки сомневаются, что у прапора Сахронова есть оружие. А ты знаешь, Карлсон, что бывает с недомерками и прочими Фомами неверующими, когда прапор достает свой боевой ствол?
— А чего Фома-то? — взревел циклоп.
Кукушкин ласково тронул его за плечо:
— Это не о тебе, Коля, поговорка такая просто… — и шепнул ему на ухо: — Хочешь, пойдем покурим? Этот Гайд-парк надолго…
— Парк чего? — Фома выкатил на Эдика воспаленный глаз.
— В смысле — базар… Хочешь? У меня есть заначка, пойдем?
Они незаметно выбрались из толпы и скрылись в палате.
Через минуту следом вбежал Безухий и принялся выбрасывать из своей тумбочки незначительные пожитки. Не найдя, чего искал, дико матерясь, схватил тумбочку и стал ее вытрясать, отчего вылетел ящик и повисла на одной петле дверца. Безухий полез под матрас, сбросил на пол постель, заметался по палате…
— А вы что тут делаете, сволочи? Где мой пистолет?
— Не на Большом Каретном? Нет? — в дверях стоял малыш Энгельс, за ним маячил Чибис.
Безухий подлетел к Севе, за грудки поднял в воздух:
— Спер, гнида? — просипел без голоса. — Открывай чемодан, убью!
Тут вперед выступил самоубийца Чибис и с улыбкой спросил:
— А в параше не смотрел?
— В параше? — Петя выпустил Энгельса, и тот с неожиданно тяжелым стуком пришел, как говорят циркачи, на ноги. — В параше, говоришь? Хороший вопрос. Фома! Сунь-ка Холеру в парашу, пусть поплавает. Ну? Чего уставился, криворожий?
— Не надо, Коля, Коленька, не надо, — шептал обмерший тенор, но Фома встал, шевеля плечами, подошел и вдруг даже без размаха ткнул Безухого в глаз, отчего тот упал практически бездыханным.
— Нельзя дразниться «криворожий», — сказал поучительно и вернулся к Кукушкину на койку, где, присев рядом с влюбленным, раскурил, наконец, коричневую сигаретку с длинным сладким фильтром, которыми Эдик баловался иногда в мирной жизни и припас на черный день. Самолюбивый Фома повертел в пальцах красную пачку, прочел по слогам: — «Но-пе-у»… Это что ж за нопеу такое?
— «Honеy»… — нежно засмеялся Кукушкин. — Хани, Коля, сладкий…
— Точно, сладкая… — ухмыльнулся циклоп, сладко затягиваясь.
…А ранним утром, еще до завтрака (если можно так выразиться), пришел сам Касторский.
— Сигнализировали, — пропищал главный, — что ночью была тут у вас, будем говорить, буза. Не забрали ваше драгоценное дерьмо? Ах, какие мы нежные. Вот у героя, я вижу, фингал. Имело место рукоприкладство? Или сам, будем говорить, дюбнулся?
— Сам, — скрипнул в тишине зубами Безухий.
— Значить так. Если повторится, всех перевожу на спецдиету по типу карцера. Сухари с водой и никакой мобильной связи. Курортники. С вывозом фекалий пока придется обождать. Услуга подорожала, а в стране кризис. В курсе? Будем, значить, изыскивать резервы. Покаместь стараемся испражняться экономней. Чибисов, как понял?
— Не понял, — буркнул Чибис, которого от холерной вакцины, а может, и просто с голодухи заперло наглухо и безнадежно, что в сложившихся обстоятельствах было не так уж и плохо.
— Ну и славно, — подытожил Платон и, дико подмигнув Фоме, удалился.
То ли догадался об авторстве фингала, то ли импонировала ему фашистская символика Колиного татуажа… Чужая душа — потемки.
— Спрашиваю последний раз. Выпишешь Всеволода или нет?
— Раиса Вольфовна, — чуть не плакал Касторский, — не мучай ты меня! Попрут же в три шеи, если нарушу карантин! Ну, сколько ты хочешь?