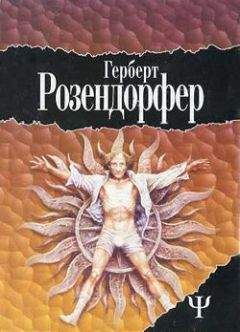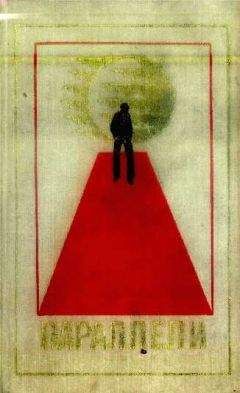Когда радость поутихла, Карл даже расстроился — у него был такой красивый план.
Под камнем был мокрый песок. Вёдра стали тяжелее, на душе стало легче, и вот уже след сапога наполнился водой. Карл подчистил поверхность, воткнул лопату и выскочил из ямы. За ужином выпили немного водки — ни за что, просто так, с устатку. Рано утром Карл подкрался к яме, осторожно, чтоб не вспугнуть. На дне плавали облака, из воды торчала половина черенка лопаты. Меж облаками что-то мерещилось, мерцало — может, звезда? Карл глянул вверх — небо заволокло, за лесом громыхало — засуха кончилась.
Несколько дней потом он пилил брёвнышки, подрезал края, скалывал четверть, прибивал соткой к каркасу. Готовый на треть, но уже тяжёлый, каркас осторожно сдвинули в яму, и Карл добивал его уже внутри, поднимаясь снизу, и вода постепенно догоняла его. Потом он засыпал яму вокруг каркаса, с наслаждением топтал глину, утрамбовывал. Потом он соорудил журавль, настоящий, с ведром на цепи, маленьким и лёгким — для бабушки.
Пришёл Славка, мельком глянул, сказал: «молодец». Большая Людмила нисколько не удивилась, спросила только, какая глубина.
Антонина Георгиевна было восхищена, всем проходящим мимо рассказывала, какая Карлик умница, теперь наступила новая жизнь, ведь для полива нужно вёдер двадцать в день, не меньше… Карл считал колодец лучшим своим произведением, к тому же это был первый частный колодец в деревне.
Татьяна осторожно спросила:
— А это не гордыня, Карлик, не памятник самому себе?
— Бери выше — тогда уж памятник собственной глубине — целых три с половиной метра. Смотри, как бабушка радуется.
Купаться ходили теперь налегке, и было это почему-то грустно. На зиму колодец забыли закрыть крышкой, и в него упал зайчик. Вытащила его по весне Татьяна — Карл не смог.
Розовый надувной заяц прилип к белому полусводчатому потолку сельской базилики в посёлке Санта Маринелло, римской области. Белые стены обшиты по плечо деревянными панелями. Общее колхозное собрание затянулось далеко за полночь — это было торжественное богослужение по поводу католической пасхи.
Карл числился православным, но сейчас это не имело значения — он был «туристо религиозо».
Зал был почти полон, прихожане сидели тихо, иногда покашливали. Пастор негромко читал латинские фразы, то отрывистые, то долгие, насколько хватало вдоха. Затем на кафедру взошла тётка в пиджаке, а пастор отсел в президиум. Тётка громко и недовольно выговаривала пастве. В голосе её звучала медь звенящая, кимвал бряцающий.
Прихожане ёжились. Карл подумал: если такие тётки — норма для католиков, тогда понятно, отчего благодатный огонь даётся только православным.
Из всех христианских чудес больше всего Карла волновал благодатный огонь, его схождение. Рассказы о том, что он не обжигает, а лишь омывает и греет, его не трогали. Были у него знакомые с опалёнными бородами и даже обожжёнными мордами, — и правильно, благодатный — не благостный, и не игрушка. Но само чудо схождения — это и есть экзамен на веру, покруче непорочного зачатия.
Тётка умолкла, снова вышел батюшка пастор, извинился, как мог, судя по интонации. Возникли певчие в белых одеждах и в джазовом ритме исполнили:
`аллилуйя, `аллилуйя,
`аллилуйя, `аллилуйя,
`аллилуйя, `аллилуйя,
аллилуйя`.
Зал, воодушевлённо притоптывая, подхватил.
Чёрная ночь стояла над курортным посёлком, копошилась в сосне ночная птица, верещала рассветным голосом: «Чивитта веккиа… Чивитта веккиа…», что в переводе означает «древняя цивилизация».
Карл выключил насос и огляделся: обе бочки были наполнены, полны были ведра, кастрюли, тазики и лейки. Он поволок шланг по заросшим грядкам, бросил под яблоню. Конец шланга крутнулся, ледяная вода зашевелилась в молодой траве.
Давно уже нет тёщи, прошли времена наивного выживания, когда казалось, что огород, в случае чего, прокормит. И ёмкости эти с водой ни к чему — разве что прольёт Татьяна ближе к вечеру оставшиеся грядки — с луком, чесноком и укропом, да квадратный метр зелёного горошка для детишек. И, конечно, цветы — много теперь у Тани цветов.
Общественный колодец оплошал совсем, протух, и этот, гордость бабушки, тоже. Почти вся деревня вырыла себе личные, бетонные, водопроводы понаделали, да ещё с подогревом. Стыдно возить воду от соседей, в бочке на тележке, это стоит речной канистры. Нужен колодец настоящий, взрослый. А этот — пусть останется памятником на родине героя. Прости, Антонина Георгиевна.
«Не смеют силы чёрные над Родиной летать…»
Карл вышел на крыльцо. По лугу парадным строем двигались автомобили — старики, высланные на покой, на дожитие, после долгих лет службы. Они и здесь трудились по мере сил — таскали от причала коробки, рюкзаки и пакеты, волокли бревно или лодку, возили навоз из славкиных запасов.
Впереди, елозя глушителем по кочкам, переваливался горбатый «запорожец».
За ним, рыча, еле сдерживая страсть, подпрыгивала зелёная «Нива», следом притулилась новенькая среди них, ещё неотёсанная белая «Лада». Над «Ладой» нависал военный грузовик с тентом, безносый, с вытаращенными фарами. Он единственный в команде был практически здоров и мог выбираться на большую дорогу. Замыкающим присобачился современный квадрацикл.
Из «Нивы» неслись песни военных лет, трепыхались флаги — триколор, красный с серпом и молотом и даже, на грузовике, пластиковый флажок США. За рулём сидели дети, лет двенадцати-четырнадцати.
— Девятое мая, — вспомнил Карл и покачал головой: младая жизнь играла не хорошо — скакала по бездорожью, громыхала железяками и кривлялась.
— Любуешься? — Славка опёрся на палку и с отвращением смотрел на кавалькаду. — Вот нахера, Борисыч, эти хуйвинбины мне только что забор чуть не повалили…
— Ладно, Слава, чуть не считается. Они ведь хорошего хотят, только не знают, как.
— Хорошего! Они бобра от козла отличить не могут. Пойдём к тебе, посоветуемся. Праздник всё-таки. Хозяйка не прогонит?
Праздник Победы на деревне чтили, но не отмечали, — наскоро сажали картошку, и разъезжались по домам — завтра на работу. Оставшиеся поднимали вечером стаканы, каждый в своём углу — Васька с Машкой, Сан Саныч с Галей, да Славка с дедушкой из зелёного домика.
Во второй половине дня ветер поутих, — река ещё синела, но облака уже не выбегали из-за леса, а плавно покачивались посреди неба. Вечером, может, и клевать начнёт. Надо проверить удочки — сменить поплавок, перемотать донку. Дел то всего — Карл огляделся — сжечь мусор. За две недели накопилось два мешка. Мусорная яма была на лугу, метрах в тридцати от забора. С каждым годом она мелела, заполнялась несгораемыми предметами — битой посудой, дырявыми вёдрами, перегоревшими электроплитками, консервными банками. Каждой весной это было тревожное зрелище. Время от времени ветер выманивал из кучи полиэтиленовый пакет, и тот перелетал с места на место, цеплялся за прошлогодние травы, срывался и вновь скользил по свежей траве, уводил Карла далеко, как перепёлка от гнезда. Карл подкапывал кучу по краям, забрасывал глиной самое неприглядное. В конце мая куча зарастала, превращаясь, как в сказке, в великолепную клумбу тёмно-зелёной полутораметровой крапивы.
Он решил вырыть рядом новую яму, не такую основательную, но хотя бы на пару сезонов. Сухую траву вокруг ямы срезал лопатой, присыпал края глиной, «по уму», как сказал бы Астафьев, — чтобы пламени не было за что зацепиться, если перехлестнёт через край.
Каждой весной случались на лугу небольшие пожары, — то Митяй подожжёт, то десятилетний Илюха, а если горело широко и долго, то это — округляли глаза дачницы — приходил Колька, пастух своих коров, чтобы трава лучше росла. И, главное, козёл — подожжёт и уйдёт себе в Кокариху, чем кончится — по барабану, хоть трава не расти.
Эти лёгкие пожары были не страшными и даже забавными. Гасли они сами, в крайнем случае, можно пройти по кромке мелкого огня, затаптывая его сапогами. И ничего — подошвы только слегка нагревались, даже приятно в холодный день.
Карл поволок чёрный мешок — совсем, как в Венеции. Надо же, и шнурок продет, Европа. Он затянул шнур и аккуратно уложил мешок на дно ямы. Окропил бензином, вытер руки о штаны, бросил спичку и отшатнулся. С лёгким взрывом поднялось высокое пламя, и тут же осело. Мешок морщился, тускнел, гримасничал, потом раздался хлопок и взлетели над ямой пламенные памперсы, картонные тарелки. Короткий порыв ветра, может быть, последний порыв уходящего циклона — и содержимое мешка перевалило через глинобитную полосу.
Как можно было не обратить внимания, что прошлогодние травы в этом году значительно выше, гуще и суше, чем всегда. Как можно было туго затягивать верёвочкой этот чёртов мешок… Это всё — потом, потом. А сейчас — высокое, по плечи, пламя надвигалось на отступающего Карла быстро, но без суеты, оно издавало тихое грудное гудение, оно явно что-то имело в виду. Что-то новое, грозное, а может, давно забытое. Вдруг стало ясно, что огонь ниоткуда не взялся, он был растворён в воздухе, — всегда; дремал мирным маревом, ждал момента. Знакомое ощущение мелькнуло сквозь ужас, ну да, это было само Время, воздух Италии, обратная его сторона. Это был Благодатный огонь, знамение Царства Божьего, Благодатный, но не благостный, призванный уничтожить всё ненужное, мусорное… Неужели… Татьяна бросилась в дом, вынесла внучку. На зов Кати откликнулись уходящие к причалу в городских одеждах Митяй с Лёхой. Возник Илюха с вёдрами, с вёдрами прибежала Катя, Карл лихорадочно включил насос. Струя потекла медленная, вялая, совсем не такая, как утром.