Ознакомительная версия.
Больно кольнуло под сердце, как всегда случалось с ним на пересечениях быта и тех, других, слов.
Впрочем, вслух он угрюмо произнес:
– Каяться по каждому случаю, никаких нервов не хватит. Мы все сделали путём, по инструкции. И номер правильный, и мужик – бык. Ну, голый, душ принимает. Вы ведь сами говорили, здоров, как бык. Он таким и оказался. Не спрашивать же у него паспорт? Шлепнули и пошли.
– А могли бы и спросить. От вас бы от того не убыло, – рассердился Николай Петрович. – Куда торопиться? Вы не землю пахать пришли. Наше Дело, оно зависит от любой мелочи. Еще как зависит! Вот Сережа Кудимов, покойничек, земля ему пухом, тоже заспешил, отдыхать собрался. Я ему доверительно говорил: не суетись, Сережа, все хорошо, готовься к своей поездке, ни к кому не заглядывай, успеешь всех повидать. А он, на тебе, зарулил без всякого спроса в Лодыгино, к братану. О чем говорили? Какие мысли? На какую тему мечтали? Я ему доверительно говорил: тебе, Сережа, поосторожнее бы, а? А он слушал и рассеянно улыбался, будто я или Дело ему как бы уже по боку. А под конец и Анечку втравил…
Николай Петрович вздохнул и, не меняя тональности, все тем же голосом добавил, обращаясь исключительно к Игорьку:
– Придурок! Ты почему утюжок не выключил в Анечкиной квартире? Сильно торопился? Свербит в заднице? Значит, все по быстрому? Шлепнул и пошел? А вдруг бы пожар? Это ж государству убыток. Это ж не чужое государство, где спали хоть весь город. Это наше государство, и все в нем наше. И жить в нем нам. Нам его обустраивать. А ты?
– Плевал я на государство!
– Ты посмотри на него, Хисаич, – опять обиделся Николай Петрович, аккуратно гася сигарету в пепельнице. – Родители у Игорька были известнейшими людьми, в меру своих сил они умножали богатство и славу родины, а сын?… Я тебе о том говорю, Игорек, поганец, – понизил он голос, – что нет в нашем Деле мелочей. Слышишь, как я произношу это слово Дело? С большой буквы. С самой большой. Сейчас из-за Анечкиного утюжка вся криминальная хроника стоит на ушах. Почему это, дескать, утюжок? Как это так – утюжок? Эту Анечку, что – током ударило? Чего это она в окно побежала, если только что гладила юбку и явно налаживалась куда-то не в окно? Я вас, придурки, не для того держу, чтобы вы давали поводы для гаданий. И главное, кому? Криминальной хронике!
Он предостерегающе поднял палец:
– Нагадили, приберитесь. День как раз кончается, хорошее время для приборки. Дуйте на улицу Тельмана, дом, квартиру знаете… Кстати, Хисаич, – хитро прищурился Николай Петрович. – Тельмана, Тельмана… Почему это вдруг улицу в Питере назвали в честь Гдляна, а не Иванова?
– Кто такие?
– И правильно, Хисаич. Пока не заказали, пусть себе живут в неизвестности. До поры, до времени незачем забивать голову лишним, – одобрил Николай Петрович. – Короче, дом знаете, квартиру знаете. Посидите, потолкуйте с девушкой с телевидения, спросите, что у нее на уме? Ты, Игорек, поаккуратнее поройся в вещичках, глаз у тебя наметанный. Расспроси, зачем девушка поминает «Пульс»? Не в первый ведь раз, кстати. Если есть какие-то бумажки по «Пульсу», все такие бумажки ко мне. Может, блефует девушка, а может…
– Будет она держать дома бумажки!
– А ты, Игорек, присмотрись. Я ведь не говорю, что она их дома держит… – остро глянул на Игорька Николай Петрович. – Я просто говорю – присмотрись. Аккуратнее присмотрись. Как увидишь бумажку с грифом «Пульс», так сразу в карман ее. Чтобы уже сегодня лежала передо мной. А девушкой ты займись, Хисаич. Ты у нас не торопыга.
– Хорошенькое дельце! – ощерился Игорек. – Ну, Анька там, бык в гостинице. А тут телевидение! Они же не дураки, у них власть. Они враз поднимут все спецслужбы.
– И пусть! – Николай Петрович тихонечко рассмеялся, даже пальцами удовлетворенно постучал по приборному щитку. – Пусть обязательно поднимут все спецслужбы. Дело-то государственное. Телевизор надо смотреть. Вы только взгляните, вон как выросла у нас преступность!.. Проституция!.. Воровство!.. Самоубийства!.. Мне Сережа покойный, не поверите, говорил, что у него бумажник в Смольном свистнули из кармана!.. Это что ж? Это как можно терпеть такое?… В святая святых! В городе трех революций!.. Нет, пусть, пусть поработают спецслужбы, пусть почистят город от дряни.
– Верно, – поразмыслил Хисаич. – Проститутки кругом. Не без этого. Плюнуть некуда.
– Но, слышишь, Хисаич? Без всяких там выпаданий из окон. Творчески подойдите. А потом навяжите узелок барахла, вроде как простые грабители приходили. Пусть работают все спецслужбы.
– Да мы… – по-детски обиделся Хисаич.
– Журналистка все-таки, – ощерясь, напомнил Игорек. – У нее, наверное, полон дом знакомых.
– Ну, не придурок? – искренне удивился Николай Петрович. – Опять мне его учить, торопыгу. Даже если у девушки полна квартира гостей, дело остается делом. Подождете в машине, не останутся гости на всю ночь. К тому же, муж девушкин в Африке, об этом знаю доподлинно. Не должны гости у такой девушки засиживаться у нее до утра. Нехорошо как-то. Безнравственно. Да и на работу утром. – Он обиженно поджал губы. – Короче, Хисаич, и ты, Игорек, действуйте аккуратно и по обстоятельствам. Все ясно?
– Угу, – сказал Хисаич.
– Не слышу вопросов.
– Вопросов не имеем, – угрюмо буркнул Игорек.
– Ну и слава Богу. А я, значит, теперь домой.
Николай Петрович включил зажигание и мотор сдержанно заурчал, забегали по стеклу дворники.
– Мне сегодня еще вычислять, куда этот бык смотался. Не было печали… Хорошо, если домой сбежал, а если шастает по Питеру?… Не наделай вы ошибок, ребята, сейчас бы сидели дома.
– Да что там… Виноваты… Кругом виноваты…
– Вот и лады. Выматывайтесь.
Он дождался, пока они выйдут, и остановил Хисаича.
Нахлобучив на голову выцветшую кепку, Хисаич громоздко наклонился к опущенному стеклу.
– Ты, Хисаич, позвони, – негромко сказал Николай Петрович. – Пусть поздно будет, все равно позвони. Я сегодня рано не лягу.
Увидев, что Игорек нырнул в «шестерку», поставленную под мокрой каменной стеной, добавил негромко:
– И еще… Хисаич… Ты присмотри за Игорьком… Что-то в последнее время он нервничает… Стал какой-то смурной, огрызается… А нам Игорька надо беречь… Самый точный ствол Питера… С чего бы ему нервничать, а, Хисаич?… Ты присмотри за ним… Может, устал…
– Так все устали, Николай Петрович. Жизнь такая.
– Это ты верно сказал – жизнь…
И, вздохнув, добавил непонятно:
– Какая-никакая, а жизнь…
Дождь.
Свет проходящих машин.
Ночные мгновенные радуги.
Игорек уверенно вел «шестерку».
Он знал Питер.
Он любил и ненавидел Питер.
В огромной библиотеке отца он пересмотрел сотни старых литографий. Может, тысячи. Не считал.
Низкие каменные и деревянные набережные, черные смоляные сваи, лодки на Неве, впечатляющие с фасадов, но насквозь протекающие дворцы.
Огромные петровские дворцы, поставленные не на болотах, поставленные на человеческих костях.
Ковчег для России.
Это сам так Петр говорил – ковчег.
«Тружусь, как Ной, рублю ковчег для России».
Умных бы рулевых, только не везет России с кормчими. То, значит, сами отвлекаются на постройку ковчега, то, значит, отвлекаются на стройку каналов… Но народ сознательный. Отец однажды показывал Игорьку бумажку. Андрей Платонов, писатель тонкий и душевный, убедительно просил московское начальство послать его на Беломоро-Балтийский канал. Или на канал Москва-Волга. Мечтал написать хорошую книгу о большевиках – покорителях природы
Тоска.
Ковчег.
Не для России.
Для каторжников.
Как-то Игорек процитировал Хисаичу вычитанный в старой книге высокий царский указ.
«Его Царское Величество усмотреть изволили, что у каторжных невольников, которые присланы в вечную работу, ноздри вынуты малознатно; того ради Его Царское Величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным бежать, везде утаиться было не можно».
– Ты чё? – испугался Хисаич. – Это ж все при царизме было! Мы зачем революцию делали? Не люди, что ль?
Игорек усмехнулся.
Какие люди?
Хисаич – животное.
Тупое, не злое даже, но животное.
Дицерах, кажется, говорил в древности: человека существо есть тело, а душа только приключение. Тело у Хисаича большое, а души нет. Соответственно, нет приключений. Существо Хисаича – тело. В окно выбросить, шею свернуть, как той дежурной в гостинице. Это по Хисаичу. Он дышит, хапает, жует, давит. Не по злобе, конечно, а по приказу. Но хапает, жует, давит. Крупное животное, всем своим крупным телом осознающее пользу Дела. Хисаичу ведь все равно – убить человека ножом или годовым комплектом журнала «Аполлон».
Игорек зло ощерился.
В свое время отец Игорька тоже был хисаичем. Правда, умным и тонким хисаичем, глубоким знатоком социалистического театра и социалистической поэзии. Хисаичем, профессионально овладевшим всем хитроумным инструментарием советского критика. Его боялись при всех режимах, а он жадно дышал, страстно давил и хапал. И сам боялся. Отсюда лукуловы пиры, задаваемые им время от времени для им же обиженных актеров и литераторов, отчаянные ночные пиры, на которых другие такие же литературные и театральные хисаичи топили в отборном коньяке свой страх перед хисаичами, сумевшими подняться по социальной лестнице выше, чем удалось им.
Ознакомительная версия.


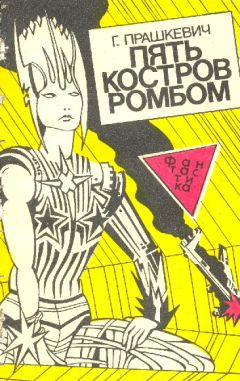
![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)