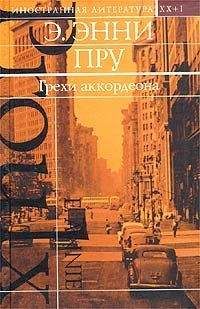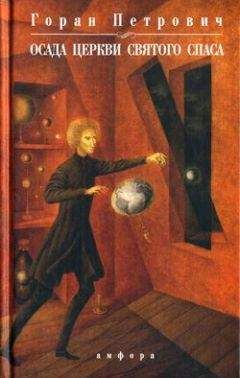Трубка повешена, она целует его, и благодарность скрыть, кажется, не удаётся — да и надо ли? А он горячей, требовательней, в шею, и она даже на цыпочки привстаёт, обнимая под курткой и чувствуя, как перекатываются под рубашкой плотные, с тонкою, наверное, кожей мышцы, всего чувствуя… слишком всего, и с тихим, с прерывистым смехом отстраняется бёдрами, отталкивается и плечами вывёртывается из рук его, всё-таки и смущённая его желанием. Но кабинка тесна, руки сильные и не чужие, свои почти, она уже их знает немного и даёт забрать всю себя, всё, и казаться начинает, что падают они куда-то, обнявшись, или плывут с кабинкой этой вместе — мочой же пропахшей, лишь сейчас почему-то замечает она… Её передёргивает всю, возвращает; она усилие над собой делает — и над ним, отрывается, спиною выбирается на воздух, выводит его, не выпуская руки, и ещё раз тянется губами к нему, к подбородку, уже колючему, в уголок губ, второй раз сама.
Он помнит, конечно же, что — пора, хватит; но ведь и в самом деле ему пора, ночь давно, перебрёх собак в частном секторе умолк уже и всякие теперь скоты ходят на свободе, не то что фонарей — света дневного не боясь, а у него дело, какое оно ни есть. Она разглаживает кармашек на его груди, на куртке, взглядывает — нет, он всё понимает, у него добрые совсем глаза, без прищура всякого сейчас, и она кивает ему: ага? Ага. А где он живёт, этот… ну, Иван? Да? Так это ж по линии по одной — далеко, но всё ж…
— Нехорошо у него там, неладно… — говорит он. И поясняет: — В семье. Да нет, ничего… я там вроде парламентёра. Дурит она — а чего б ещё надо? Посидим с Иваном, ночку отдай… Нет, я провожу.
Он смотрит, меряет глазами малосемейку; они поднимаются к её двери, и слово, всего одно — «кофе?» — с совершенно непонятной себе самой интонацией произносится ею, голосом таким непослушным, что высечь бы его, голос… В ответ он опять тянет её на себя за мягкие, она сама это чувствует, в его руках безвольные плечи, тискает ласково их как-то, говорит: «Нет, пойду…» — целует ещё, бодает скулой и уходит — в самом деле уходит, оглянувшись на повороте из коридора и кивнув ей: жди…
Она отпирает дверь, входит — и посреди комнаты останавливается, не в силах что-либо думать, делать ли, оглядывается; и спешит к окну, к незашторенной его, в слепых отсветах темноте, зная сама, что ничего-то она там, на другой стороне, не увидит, кроме одинокого средь листвы фонаря в улочке и недвижно-бессонного, настороженного зарева над скопищем ближних и дальних мёртвых огней города. Немного погодя с воем прокатил за углом неизвестно в какую сторону поздний троллейбус — успел? Должен успеть, остановка недалеко. Напряжённо вслушивается, пытаясь определить, где остановился троллейбус; но тут, как назло, этажом или другим выше, в одной из дыр оконных пролетарского этого ковчега врубают на полную мощность магнитофон, и начинает хрипеть, глухо выть не забытый здесь ещё Высоцкий.
Потерялась совсем девочка. Затерялась где-то между тоской ноябрьских выстуженных огородов с нетающим в бороздах снежком, слякотью небесной, в вечер переходящей, в вечность, гремящих пустых и плескающих коровьим пойлом тяжёлых вёдер, вечно сырых галош на грязном приступке заднего, во двор, крыльца — и оскорбительным равнодушием этих пустых огней, для чего-то другого засвеченных, не человеку, но чему-то преступившему уже все законы, нелюдскому кадящих синюшным своим призрачным светом, назначенным не осветить, но скрыть, растворить в призраках своих всё, самого человека тоже — оставив от него лишь косую тень… И что так надрывается этот, над чем, волчьему подвывая в себе, в нас, в мертвенном этом недвижном зареве ночи?
Заело штору, приходится на стул вставать, на подоконник — и вся как нагая она под волчьи немигающим взглядом города, лишённого небес; вместо него, неба, муть какая-то, сизая от дневного смога взвесь, немота и хриплый этот, осатанелый, в ней полузадохнувшийся уже голос.
Она не знает, от чего проснулась — не от радости ли? Уже налиты тяжёлым багряным жаром шторы, брызжет в их расходящуюся от сквозняка щель солнцем; и она на груди переворачивается — потяжелевшие, ей кажется, груди — и всё теперь помнит, всё… Даже то, что вчера как-то ускользнуло от её внимания, запало в промежутки головокруженья того, странного же, сладкого, забытого почти… как за диван бигудишка какая-нибудь западает или заколка, потом только и найдёшь.
Помнила, как в какой-то момент за шею обняла, повисла почти; как лицо его потом в ладони взяла, когда в плечо он целовал, — и как оно сильно, неукротимо двигалось в них, лицо, порывалось всё ниже куда-то, всё глубже в неё, вздрагивать и ёжиться заставляя… Какое на ощупь плотное и сильное тело всё у него, такая приятная под рукою плотность у благородного, тяжёлого дерева бывает — у статуэтки африканской такая, Слава же и давал как-то подержать, готовиться мальчику… И руки его, когда владели всею, — мог же, но не позволил… совсем мало, вернее, но не в этом же дело, а в том — как. И телом всем вытягиваясь, руки под подушку запрятав, в прохладное, вспомнила, как отстраняться пришлось, и смешок вслух упустила — замираньем каким-то отозвавшийся в ней; и вдруг поняла, что не в комнате одной это сквознячок гуляет, жар её сна наяву разгоняя, радость отвеивая и усмиряя, а в ней самой, что — боится…
Прибралась и, на миг какой-то поколебавшись, подняла спинку дивана, хотя этого-то обычно не делала. Коньяка оставалось больше полбутылки, она ещё вчера мимолётно тому порадоваться успела, по — бабьи, не увлекается, вина и вовсе. И розы на столике, она уже присаживалась к ним, на минутку: отборные самые, свежие, нашёл…
Надо было в магазин, хлеба свежего ему, всего, что попадётся подходящего и по карману, да ещё и приготовить успеть, котлеты, может, фарш у неё есть, а уж десятый час. И на лестнице вспомнила: Слава… Вполне ведь может прийти, не в первый же раз, как она не подумала сразу, — позвонить, упредить.
В телефонную кабинку заскочив, огляделась: неужто здесь, господи?! Ничего-то мы себе не выбираем, никого, всё кто-то за нас. Нет, она и выбрала вроде — но кто и что может сказать ей наперёд? «Кто может молвить „до свиданья“ чрез бездну двух или трёх дней?..» — из книжечки маленькой у неё… из Тютчева? Лето, давно ничего не читала, а надо бы.
Никто там не отвечал, и было это странно даже, в такую-то для горожан субботнюю рань — собачку выгуливают, что ли? Собака считается Славиной, сказали — чистокровный французский бульдог, а выраженьем морды, прости господи, скорее на маму чем-то смахивает; и она никогда ни за что не поймёт, как можно не то что любить — а там любили, ласки сюсюкали, склоняясь, — но просто жить в одном помещении с этим омерзительным существом кривоногим, злобноватым вдобавок… Опоздала; ну, ещё раз попробует, от магазина, там автомат в тамбуре, не успели ещё раскурочить.
Возвращаясь, увидела его, Славу, у подъезда — видно, поднимался уже к ней и теперь, на бетонный блок присев, служивший тут чем-то вроде скамейки, поглядывал вокруг в раздумье… накаркала, надо же! Он что, в самом деле слов её всерьёз не принимает?! Разозлилась даже, шаг сбавила — может, свернуть куда, прогуляться? Нет, нехорошо, низко. И он заметил её, издалека было видно — обрадовался, встретились на самом солнцепёке.
— Я ж просила, кажется…
Больше было нечего сказать ему — больше раздраженья этого, непреодолимого.
— Ну, а если рядом оказался… по пути! — улыбался он нисколько не виновато. — Шеф просил тут к клиенту зайти, бестелефонному — вон в тех домах… О, какая сегодня ты! По какому случаю?
И за руку хотел взять, но она отшагнула, плечами пожала: «Выходной… — Не нашла чего другого, солгала: — К родне надо, к тётушке. Пошли сядем». — «Уж и кофейку страждущему…» — «Нет, Слава, нет… Сядем» — и пошла, он за ней, с деланной уже весёлостью недоумевающий, к скамейке старушечьей у частного дома напротив, там они, бывало, сидели. С неё, кстати, и подъезд был виден.
— Мы ж договорились…
— Да что ты озабочена так этим? — Она уже села, а он стоял перед нею, высокий, от природы стройный, чёрными живыми глазами ласково глядел — куда эффектней, конечно, Алексея, это она вынуждена была признать сейчас, девы лабораторные не зря считали его красавчиком… Если б не квартирная белотелость, не мягкость рук его, эта не то что безвольность, нет, но уклончивость от всего… от мамы привык уклоняться. — Пришёл — и ушёл… Ну, люблю. И не скрываю.
Она молчала, всегда он обезоруживал её этими откровенными слишком, непривычными и, как казалось иногда, неприличными даже в чём-то словами, каких не любила и побаивалась, лучше молчать уж, чем так, впрямую; но и оспорить не могла, обижать не хотелось… Что вот на них отвечать? Сидишь как дура — словами этими, глазами, всегда такими предупредительными к ней, незаслуженно ласкаемая, авансом будто, оглаживаемая… кошку так гладят. Или эту псину свою. Опутают словами, огородят — не рыпнешься, это в семье у них манера, что ли, такая… И движенье сделала, как бы освобождая место ему рядом на скамейке, без того достаточное, и он подсел: