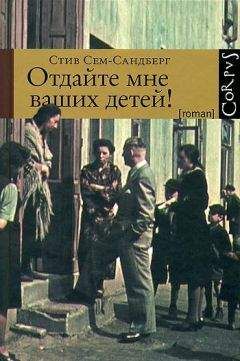Ночью Лейя старалась дышать беззвучно и ровно, чтобы Илья думал, что она спит, хотя ей очень хотелось поговорить с ним. Придумывала, как надо завести со Стонкусами разговор об Анечке, попросить разрешения рассказать ей правду. Конечно, будут горячо и искренне благодарить, уверять, что по гроб жизни им обязаны. Скажут, что надежда увидеть дочь придавала им там, в лагере, силы. И что теперь ведь и у них самих, слава Богу, есть очаровательная малышка. Но Стонкувене, наверное, скажет, что Онуте — она ведь ее так называет — им теперь тоже своя. Может, потом когда-нибудь, когда Онуте подрастет, расскажет ей правду. Но тогда она же будет еще больше привязана к Стонкусам… Да и как им самим все это время делать вид, что они ей чужие?
Лейя не выдержала, вздохнула.
Илья — он тоже не спал — погладил ее руку.
— Спи. Н…нужны силы.
— Ой как нужны… — согласилась она и продолжала думать все о том же: как признаться Анечке, что они и есть ее родители. Не испугается ли она, что они евреи? Ведь там, в Германии, наверное, всякого наслушалась.
Стонкусы тоже не спали. Особенно она.
— Что будет? — спросила она. И он, хоть и был расстроен, постарался как можно спокойней ответить:
— Будем жить.
— Но как? Как жить без Онуте?
— Почему совсем без нее?
— Они же ее, наверное, заберут.
— Ребенок не вещь, которую дали во временное пользование и забирают обратно.
Стонкувене умолкла. Вроде задремала. Он тоже забылся.
— Не могу я отдать ее. Мы ее спасли, вырастили. Они должны это понять.
— А ты их понять не должна?
— Не могу я ее делить с ними.
— Зачем делить? Ее привязанность к нам и наша к ней никуда не денутся.
— А если она привяжется к ним?
— Значит, голос крови.
— Но она же крещеная.
— Они это, видно, поняли. Слышат же, как мы ее зовем.
Перед рассветом они, усталые, наконец уснули. Но вскоре их разбудил плач маленькой Бируте. Пришлось встать, накормить ее. Вскоре поднялась и Онуте. Все было, как каждое утро. И Стонкувене подумала: хорошо бы так всегда. Но понимала, что только до следующего воскресенья… И не выдержала, спросила:
— Онуте, ты нас с папой любишь?
— Очень! — И рассмеялась: — А кого еще мне любить?
Этот ответ Стонкувене больно кольнул, и больше она ничего спрашивать не стала.
В следующее воскресенье Илья пришел к Стонкусам со скрипкой и попросил разрешения сыграть им (а на самом деле Анечке) что-нибудь. Стонкусы даже обрадовались, — музыка заменит необходимость разговаривать.
Илья заиграл «Сентиментальный вальс». Лейя напряженно смотрела на Анечку: вспомнит ли, узнает ли? Но она только сосредоточенно слушала. Всего лишь слушала…
На обратном пути Лейя утешала Илью, да и себя, что Анечка не могла вспомнить эту мелодию, поскольку была крохой.
Однажды, когда Стонкувене была простужена, Лейя попросила у нее пойти с девочками погулять. Стонкувене неохотно, вопросительно глянув на мужа, согласилась. Но спросила, не будет ли ей тяжело, ведь малышку надо нести на руках, а коляской они еще не обзавелись. Лейя, заранее не намереваясь это делать, неожиданно для себя свернула в бывшее гетто. Три улочки уцелели только на одной стороне, но дом, в котором они жили, а также тот, в который когда-то перебрались, уцелели. Но Анечка этих домов не узнала. Да и не могла узнать. Бируте у нее на руках вскоре захныкала, и Лейя вернулась с девочками в гостиницу.
Даже Илье не сказала, что ходила в гетто, потому что не могла бы объяснить, почему ее потянуло с Анечкой туда.
7
В одно воскресенье Анечка вернулась со двора заплаканная. Лейя встревожилась:
— Деточка, что у тебя болит?
— Ничего…
— Наверное, — помрачнев, ответил за нее Стонкус, — дети во дворе опять назвали ее предательницей.
— Они кричали, — всхлипнув, пожаловалась дочка, — что мы враги, удрали с немцами. А ведь мы не удрали. Папочка, ведь немцы заставили тебя уехать. Грозили.
Стонкус еще больше помрачнел.
— Это пятно, видно, надолго. А быть может, на всю жизнь. Никого не интересует, что не по собственной воле уехали, что нас заставили. И еще напугали, что большевики мне не простят то, что при немцах остался служить в театре.
Воцарилась тишина.
Наконец Лейя заговорила:
— А в театре вас восстановили?
— Пока меня одного. И то не на прежнюю должность артиста высшей категории. Начальник отдела кадров даже ухмыльнулся: «Сами понимаете, не наш вы человек, хотя талантливый. И будь моя воля… Но я должен был выполнить указание, вас, вернувшихся, трудоустроить».
— А госпожу Стонкувене?
— Меня считают в отпуске за свой счет по уходу за ребенком. Все, что обещали, — это квартиру. И то всего двухкомнатную.
— В в…вашей жи…живет советский офицер.
— Знаю. Я там был. Но дальше передней новый хозяин меня не пустил.
Опять воцарилась тишина.
Лейя понимала, что им надо уйти. Но так не хотелось… Снова целую неделю считать, сколько дней осталось до воскресенья, когда они смогут увидеть Анечку.
А в следующий приход малышка Бируте болела, и Лейя предложила хозяйке, что они с Ильей погуляют со старшей (ее нового имени все-таки не могла произнести…). Стонкусы согласились. Даже поблагодарили.
Не сговариваясь, почти машинально, теперь уже оба свернули в бывшее гетто. Темнело. Во многих окнах горел свет, и дома казались другими. Ноги словно сами подвели их к дому, где тогда они ютились вместе с еще пятью семьями в небольшой квартирке. Вошли во двор, который Лейя тогда убирала. Постояли. Анечка спросила:
— Вы здесь живете?
— Нет. Раньше жили. — Но не стала уточнять, когда было это «раньше».
Подошли к дому, откуда Илья вынес ее в ящике трубочиста. И вышли из гетто через стоявшие там когда-то ворота, которые открывали только рано утром, чтобы выпустить бригады на работу, и поздно вечером — впустить обратно в гетто.
Когда они вернулись, Лейя заметила на лице Стонкувене напряжение. Неужели подумала, что они воспользуются ситуацией и расскажут девочке правду? Но Анечка подбежала к ней, поцеловала, и Стонкувене успокоилась.
Так и ходили они к дочке каждое воскресенье и однажды помогли Стонкусам переехать на выделенную им небольшую квартиру. Иногда Илья приносил с собой скрипку, играл по просьбе Анечки нравившийся ей «Сентиментальный вальс». Иногда сам просил ее сыграть что-нибудь из того, чему ее учат в музыкальной школе. Но о главном они так и не говорили. Илья вообще молчал, — стеснялся своего заикания, а Лейе становилось все труднее называть свою выросшую дочь просто деточкой.
Но однажды, при виде дочери в постели, у нее вырвалось:
— Анечка, что с тобой? — И сразу же спохватилась: — Детка, ты больна?
— Ничего серьезного, — объяснил Стонкус (Хорошо, что его жены не было), — немного простыла. Завтра уже встанет. Онуте молодец. В детстве почти не болела и прививки хорошо переносила.
Лейя, испугавшись своей оговорки, не решилась даже вздохнуть о том, что все это было без нее — и зубки у дочери резались, и прививки ей делали.
— Только там, в Германии, — продолжал Стонкус, — в лагере для перемещенных лиц она заразилась от соседской девочки коклюшем. Но перенесла легко.
— Мамочка, мне уже лучше, и температура нормальная, — успокоила девочка Стонкувене, когда та вернулась.
«Значит, Анечка, слава Богу, не заметила той оговорки!» — пыталась себя успокоить Лейя.
Она ошиблась.
Когда они ушли, девочка спросила:
— Почему тетя Лейя назвала меня Анечкой?
Стонкувене с тревогой посмотрела на мужа. Но он сидел, опустив голову, и молчал. Пришлось самой ответить.
— Детка, тебе, наверное, показалось. — Она сама испугалась своего дрогнувшего голоса. — Или, может, так зовут их знакомую девочку.
— Нет, не показалось. Правда, папочка?
Он ответил не сразу.
— Тетя Лейя и дядя Илья наши друзья… — Он умолк, подыскивая слова. — Тебе надо с ними подружиться или хотя бы пожалеть их.
— А почему их надо жалеть?
— Потому что они очень много страдали.
Стонкувене чувствовала надвигающуюся опасность, но не знала, как ее избежать.
— Они болели? — спросила дочка.
— Нет. Страдают не только когда болеют.
— Не расстраивай ребенка, — пыталась остановить мужа Стонкувене. — Рано ей еще знать о страданиях.
— Мамочка, ты же сама говорила, что я уже большая.
И Стонкус решился:
— Это было давно, когда здесь хозяйничали немцы. Не обычные немцы, как наши соседи в Германии, а злые гитлеровцы, ненавидевшие других людей. — Он помолчал. — Особенно евреев.
— Кто такие евреи?
— Обыкновенные люди. Как тетя Лейя и дядя Илья.
Испугавшись продолжения, Стонкувене пересела к девочке и обняла ее. А Стонкус, все так же уставившись в пол, продолжал: