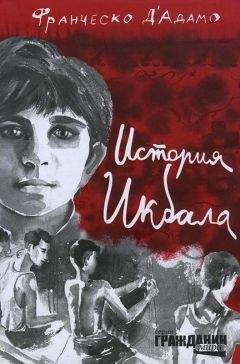— Да ладно, говори уж теперь. Раз уж я всё равно в коридор выскочил. Жена попросила купить по дороге буханку чёрного и полкило творога.
— Больше ничего не надо?
Жена сказала, что щас посмотрит. Судя по звукам, она встала из-за стола и открыла холодильник. Нет, всё остальное как будто есть.
— Хорошо. Спит Катька?
Жена подтвердила, что Катька спит.
— Хорошо.
Он отключил сигнализацию и доскакал до машины. Подождал, пока проедет женщина, увозившая пакет с надписью «ЛЕКСОФТ». Потом запустил дворники и развернулся. Включил музыкальное радио. Выбравшись на набережную, поехал в сторону дома.
Точнее, в противоположную сторону. Спохватился в шести минутах от поликлиники, когда справа по курсу показалась ограда буддийского храма. На этом месте, перед поворотом, в голове обычно возникали первые мысли о работе. Иногда чуть раньше, где раздваивался Приморский. Иногда минутой позже, на Торфяной. Но обязательно в этом интервале. «Чакры открываются», — обсмеял его как-то Игорюха в ответ на откровенность. «От близости Будды».
— И радио ещё это…
Миша свирепо выключил приёмник. Музыка оборвалась в середине хорошей песни, которую очень хотелось никогда больше в жизни не слышать. От оголившегося шума реальность тут же стала раза в два реальней. Миша сосредоточился. Он сознательно пропустил свой ежедневный поворот и докатился до Савушкина. Там грубо нарушил правила, чтобы развернуться. Поехал обратно к Чёрной речке, высматривая по дороге места, где продавали буханку чёрного и полкило творога.
Первые два магазина пролетели слева, на неудобной стороне. Третий тоже был на неудобной стороне, но лопнуло терпение. Миша вильнул к обочине и встал в хвосте у грузовой газели, припаркованной слишком близко к автобусной остановке. Заглушил двигатель. Выключил дворники. Через пять секунд зад газели расплылся в одну кляксу с домами, деревьями и трамваем, ползущим посередине улицы.
— Всё для дома, всё для семьи… — процедил Миша, застёгивая пиджак, сырой от предыдущих вылазок в дождь.
До магазина было метров шестьдесят наискосок. Миша пробежал несколько шагов по краю проезжей части и пересёк улицу в неположенном месте. Вывеска «ПРОДУКТЫ 24» маячила на углу кремового трёхэтажного дома, в одном из подъездов которого тогда, восемь лет назад, ещё жила Рощина Лиза из произведения «Хорошая». Слова на вывеске были подчёркнуты красной стрелой, упиравшейся в угол, — магазин находился в торце здания.
Под козырьком, на низеньком крыльце, покрытом скользкой плиткой, Миша стряхнул с волос наиболее крупные капли. Вытер ладонью лицо. Внешняя дверь с подмокшей рекламой пива «Балтика» была открыта настежь. На внутренней двери, посреди немытого стекла, за которым угадывалось всё, что бывает под вывеской «ПРОДУКТЫ 24», белел тетрадный листок в клеточку. Детская рука сообщала толстым зелёным фломастером, что «Продаються красивые хомичата. Звонить с 18.00 до 19.45 часов. Цена 14 руб.» На отрывной бахроме семь раз повторялся контактный телефон.
Миша опустил руку, поднятую для того, чтобы толкнуть дверь. Цена 14 руб. потрясла его. Он представил автора объявления — слишком отчётливо, потому что в роли автора оказался сам, в шестиметровой кухне на улице Народной, на жёлтой табуретке, под настенным календарём, в котором они с братом по очереди зачирикивали дни, оставшиеся до московской олимпиады. Он держал в руке зелёный фломастер из чехословацкого набора, причём держал неправильно, просунув между средним и безымянным пальцем. В школе за такое ставили два по прилежанию, оставляли после уроков и сажали переписывать учебник правильными пальцами, но тут, на кухне, можно было сосредоточиться на содержании и выводить «Цена 14 руб.», облизывая сохнущие губы и до слёз жалея себя подсадным взрослым сознанием, которому было наплевать, что никаких хомячков у них с братом никогда не было, а душераздирающую цену, если по-хорошему, следовало деноминировать до четырнадцати копеек.
Миша бережно оторвал от объявления два телефона, сунул обрывки в карман пиджака и снова поднял руку, чтобы открыть дверь, но стоило коснуться немытого стекла кончиком первого же пальца, как дверь отдёрнулась сама. Её открыла Вера в очках без оправы. Она коротко постриглась и покрасила волосы в чёрный цвет. Миша сделал автоматический шаг в сторону, пропуская выходящего. Вера невозмутимо воспользовалась этим шагом. Её глаза скользнули по нему, задержавшись на долю секунды или не задержавшись вообще, её бесстрастное лицо никак не изменилось, она не замешкалась и не заспешила — она просто прошла мимо, потому что под маленьким козырьком всё равно не хватало места для двоих, и остановилась в трёх шагах от крыльца, на краю асфальтовой дорожки, и там ловко распахнула зонтик, висевший у неё на запястье свободной руки. Другая рука держала пакет, набитый продуктами. Оттуда торчал апельсиновый сок, который всегда стоял в углу половинчатого стола на Радищева. Рядом торчал стандартный белый батон, которого на Радищева не было никогда.
— Вера! — позвал Миша.
Выждав или не выждав мгновение, она обернулась и посмотрела на него из-под зонтика теми же бесстрастными глазами.
— Вы ко мне обращаетесь? — сказала она голосом, очень похожим на свой, но немного ниже или немного выше, или немного резче.
Вокруг больше никого не было, дверь с объявлением про хомячков давно захлопнулась, лил дождь, ближайшие видимые люди проезжали мимо на очередном трамвае, а главное, Миша глядел прямо на неё и даже непроизвольно шагнул в её сторону, и теперь стоял правой ногой на дорожке и левой на крыльце. Он обращался к ней.
— Я к тебе обращаюсь, Вера, — сказал он голосом, очень похожим на свой, но заметно выше и ещё ледяней.
Она терпеливо улыбнулась.
— Вы с кем-то меня путаете, — в этот раз голос точно был ниже. — Меня не Вера зовут. И я вас раньше не видела. По крайней мере, не припомню.
Зонтик два раза обернулся вокруг своей оси. Она явно выжидала, когда Миша осознает ошибку и начнёт извиняться. У себя в голове он так и поступил, и там же в голове прослушал «ничего страшного», сказанное этим новым голосом ниже прежнего, и в голове же смиренно проводил взглядом её фигуру, наряженную в дикий кожаный плащ. Он провёл эти мысленные эксперименты уже через пять минут, несколько раз подряд, а потом повторял ещё бесчисленное количество раз, три года напролёт, — пока то, что произошло на самом деле, не стало казаться обрывком ночного кошмара.
— Вера, погоди, только не убегай, — он перенёс левую ногу с крыльца на дорожку. — Пожалуйста, только не убегай. Только скажи мне, ну, в двух словах скажи только, за что. Только скажи, за что, и больше всё. Пожалуйста.
Она попятилась, испуганно или нервно.
— Мне очень жаль, но вы правда меня путаете с кем-то, — она допятилась до места, где дорожка упиралась в проезд между домами. — Мне очень жаль.
На слове «очень» она резко отвернулась и зашагала в сторону двора, колотя асфальт под бурлящими лужами. Каблуки. У неё не было таких высоких каблуков. На зимней обуви не было, и на осенней как будто не было. Но опять же: про каблуки он думал тысячу раз, но потом, и зимние сапоги жены втихую сличал с босоножками тоже потом, и Вериной походкой пытался ходить не раньше того июля, на даче, да и вообще все упражнения в сравнительном анализе, все усилия использовать голову по назначению возобновились даже не через пять минут, а после второго ужаса — того, что случился в машине, а до ужаса в машине ещё предстояло дожить каким-то другим Мишей — каким-то Анти-Мишей из табакерки, который заорал:
— Вера!!! — и сорвался вслед за фигурой в кожаном плаще.
Он догнал её уже во дворе — проезд тянулся дальше, мимо мусорных баков и детской площадки, до череды тополей вокруг приплюснутого детского сада. Он обогнул эту Веру слева, разворачиваясь на ходу, и раскинул руки.
— Вера, стой! Стой, говорю!
Она остановилась. Её глаза, и без того большие, стали огромными. Рука с пакетом прижалась к животу. Со спиц дрожащего зонтика срывались капли.
— Я бы показала вам паспорт, что я не Вера… — забормотала она скороговоркой. — Там у меня написано моё имя, Миронова Ольга Валерьевна, я клянусь вам, я клянусь, я бы показала, если б у меня был с собой, вы бы увидели, что вы меня с кем-то другим, что вы меня перепутали. Я паспорт дома обычно оставляю, чтоб не потерять, мне просто он обычно не нужен, женщин же обычно не останавливают… — в животном страхе за стёклами без оправ появился заискивающий блеск. — Клянусь вам. Вы мне не верите? Подумайте, ну зачем мне вас обманывать…
Вода на затылке у Миши собралась в струйку и просочилась под воротник рубашки.
— Вот и я тоже хочу знать, — поёжился Миша, не опуская рук. — Я тоже хочу знать. Есть у меня такой вопрос. Очень такой философский.
«Понимаешь, да?» — пискляво передразнил он. — Ну зачем, думаю, Вере меня обманывать? Вера же умная, Вера интеллигентная. Вера диссертацию пишет про сознание. Вера зверей жалеет, Вера уши лечит про гуманное обращение. У них «феноменальное сознание», у зверушек, да? Они угнетённые, как женщины. Им надо права, как женщинам, давать. Это только у Миши — у Миши нет ни хера никакого сознания феноменального, с ним не хер церемониться. Чисто теоретически если, то можно было по-человечески, да? Позвонить, да? Можно было сказать: «Верни, Миша, ключи и уйди на хуй из моей жизни». Миша что — Миша отдал бы ключи без разговоров. Пошёл бы себе на хуй — и ни-ка-ких! вопросов! вообще! Но неее, мужики — это ж не люди, куда там нам. Мы коллективное бессознательное — вот мы кто. На хера по-человечески, да? Нецелесообразно… Эй-эй-эй, ты куда это пошла? Стой, сука, ты куда пошла?!