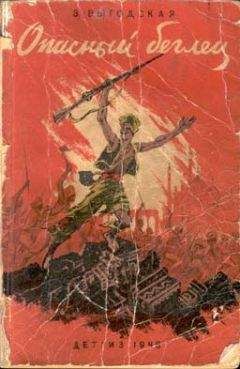И вот в заброшенном дворе (хотя в Язде трудно утверждать наверняка, заброшен тот или иной двор или нет), я наткнулся на дыру в земле. Обычную дыру, провал — накрытый от лишних людей решеткой, под которой накопилась большая гора мусора, как это часто с зарешеченными дырами бывает. Какой-то рвани, и гнили, и пластиковых бутылок с канистрами.
Но ступеньки под мусором все равно просматривались.
Вторым сюрпризом было то, что замок на люке решетки болтался на честном слове. Пролезая внутрь, я не сомневался, что проход замурован. Оказалось, в темноту круто уходит длинная каменная лестница.
Спуск был сухим, прохладным и занял минут пять. Их было семьдесят, высоких кирпичных ступеней — значит лестница уходила под землю на четыре-пять этажей как минимум (в детстве я думал, что канаты «начинаются» в подвалах, ха-ха — как это показывают все в том же фильме).
Внизу я очутился в комнатке три на четыре метра, сухой и темной. Под рукой осыпалась глина, ладони покалывала солома. Мобильник снова погас, но стены все равно освещал невнятный серый отсвет. Вход на лестницу остался далеко наверху, а других источников вроде бы не было. Я снова поднял голову, повернулся вокруг себя — и заметил в непроглядной тьме крошечный голубой глазок размером с пуговицу.
В одну из стен колодца — а это, судя по отверстию над головой, был именно колодец — уводил узкий проход. Поместиться в нем оказалось возможным, но только сидя в позе эмбриона. Ребрами жесткости каналу служили широкие кольца из обожженной глины, вмазанные в землю — тот же принцип, что потом использовали в московском метро. Я прополз боком метров двадцать-тридцать. Дальше ход разветвлялся на три коридора, превращая канал в лабиринт. Лезть стало страшно, я вернулся.
Арабы захватили и исламизировали Персию к середине VII века. Одна из последних принцесс династии Сасанидов — огнепоклонница — по легенде, бежала в пустыню, в скалы. «Чак-Чак» с персидского означает «кап-кап», то есть беженка искала воду. А затем уже тихое место для алтаря. С тех пор крошечный уступ в скале — в 70 километрах от Язда — считается одним из главных капищ зороастризма. Точкой, где тлеет искра религии, из которой так и не возгорелось пламя.
Дорога в Чак-Чак — это снова пустыня, но совершенно другая — скалистая и чрезвычайно вычурная, затейливая по рисунку. Здесь хорошо снимать фильмы про инопланетную жизнь, вернее, безжизненность. Потому что верхушки треугольных гор торчат из пустыни, как детские игрушки, забытые на пляже. Занесенные космическим песком за ночь (за тысячу световых лет).
Машина медленно вползает в складку огромной скалы. Домики — кучкой, точкой — на «фасаде» скалы не заметишь, настолько они ничтожны. Это и есть Чак-Чак. Сотня ступеней наверх, зигзагом — вход в пещеру только в белой шапке, без ботинок — и вся история с принцессами и арабами моментально меркнет. Потому что ледяная чистая вода до сих пор «чак-чак» посреди мертвой пустыни.
Перепад температур, конденсация влаги внутри скального массива, неожиданный выход на высоте небоскреба — и т. д. и т. п. Понятно, объяснимо. Но мой-то взгляд приземлен, буквален. Примитивен. Я вижу сотни километров безжизненного пейзажа, способного свести с ума одним только рисунком, цветом. Песок и глину, и глинистый какой-то камень под акриловым небом. Скалы, солончаки — «Забриски Пойнт». И воду, которая над всем этим марсианским пейзажем капает тысячу лет.
Современные домики, выстроенные на склонах, пусты — грандиозный праздник огня случается раз в году. В сущности, это не дома, а клети, кельи. Ячейки одного хозблока. Отыскать следы культа — кроме черных копченых подпалин на стенах — невозможно. Зороастризм — самая сдержанная, аскетичная, «немотствующая» и «нестяжающая» религия мира. Она не требует ни мечетей, ни соборов, ни пагод. Стеклянная тишина голых скал — умопомрачительный вид на закат — огонь и вода — вот и все, что надо.
По центру пещеры — медный алтарь, блюдо на толстой ножке. На блюде песок — на песке пара потухших головешек, остатки благовонных палочек. Спустя полчаса в пещеру поднимается семейство — старик, его молодой сын с невесткой и внук, мелкий мальчишка. Девушка простоволосая, в обычных спортивных штанах, обтягивающих фигуру. Судя по тому, насколько спокойно она к этому относится — при мне, постороннем, — это не мусульмане. Ну, так мне, во всяком случае, хочется думать.
Не обращая на меня внимания, они тихо надевают белые врачебные шапочки, сходятся вокруг алтаря. Раздувают головешки, втыкают в песок привезенные с собой палочки. Что-то бормочут — или просто перешептываются, смеются. Обходят алтарь несколько раз, собирают в пакетики пепел — а потом фотографируются. И так же тихо обуваются, уходят.
Я остаюсь один — в плоской тишине. Я чувствую себя мошкой, попавшей в смолу — миллион лет спустя, когда смола уже превратилась в янтарь.
На «Иранских авиалиниях» летают в основном немецкие «Фоккеры» (хуже, если попадется старый советский «Ту»). «Фоккеры» тоже не первой свежести, но небольшие и уютные, чистые. С занавесочками на иллюминаторах и леденцами — как в детстве.
Аэропорт в Язде современный, но без архитектурных излишеств. Когда в окне снежные горы, любой дизайн будет выглядеть убогим. И они это понимают. Стеклянная стена и кресла вдоль — вот и все, что нужно. О фотообоях Аллах позаботился.
Головная боль компании-перевозчика на регистрации — рассадить пассажиров отдельно, «мужики налево, женщины направо». Но самолет вылетает все равно вовремя. Время в полете час, летим низко. За окном тянется бесконечная горная пустыня, белые разводы солончаков, черные скальные пирамиды. Как и чем живет страна, состоящая наполовину из пустыни?
В полете раздают местную прессу. На первых полосах — крупно — трупы палестинских детей. Иранцы качают головами, тихо переговариваются. Передают друг другу газеты, сравнивают фото. Разглядывают сквозь крупный растр подробности.
К мученичеству и смерти в Иране, как и вообще у шиитов, свое отношение — как и положено в системе, чья философия строится на родовых связях, когда с потерей физического лица теряется понятие, явление. Это было видно по празднику имама Хусейна. Другой общеизвестный факт — что во время войны с Ираком подростки выходили на минные поля и разминировали их таким вот страшным образом. Никто их насильно туда не гнал, я хочу сказать. Вряд ли стимулом к подвигу служили загробные райские кущи. Скорее всего, дело тут в «семейственности» страны, ее родственном, кровном коллективизме. Когда младший рвется быть полезным; мечтает заслужить полноправное членство в семье, пусть и посмертное.
Вообще, чем дальше, тем сложнее понять, почувствовать: сколько в том, что я вижу, искренней, то есть наивной и детской веры? В моментальное попадание в рай, например? (сильно сомневаюсь). Сколько психофизики, создания-снятия невроза? (есть такое дело). Сколько ритуала? (в большом количестве). Сколько «собственной гордости»? (все-таки на счету Ирана несколько великих империй плюс классика литературы). Самое удивительное, что в иранском исламе разделить эти вещи вообще невозможно. Это «комплексный обед». Ритуал «заложен» в быт, выткан в нем, прошит — как рисунок на килиме. Религия вписана в повседневность, воплощена на ощупь, вкус и цвет. Без нее — буквально — «ни пожрать, ни потрахаться». Как, собственно, в религиозных системах, организующих реальность, и должно быть.
Глядя на то, насколько религия эффективно и — в рамках данного общества — позитивно организует реальность, смешно и грустно думать о нашем «религиозном возрождении». Которого нет и не было, несмотря на многолюдные «стояния» на Рождество и Пасху.
Форма досуга — есть.
А возрождения — нет, не наблюдается.
После праздников затишье — если тишина здесь вообще возможна. Город «облысел», поснимали со стен черно-зеленые флаги и транспаранты. Я выхожу на улицу и с удивлением обнаруживаю горы. Тегеран окружают снежные склоны, в конце бульвара белая вершина, совсем близко. Кто бывал в Алма-Ате, знает.
Город лежит на плоскости, которая идет в гору — как стол, приподнятый с одного края. Чем выше, тем чище воздух. Больше неба и солнца. В верхней части города есть несколько парков. В одном из них — Парк-и-Палех — я пристраиваюсь на лавке, подсматривать за местными.
Через дорогу университет, молодежи много. Сидят парочками, держатся за руки. Чай из пластиковых стаканчиков (все-таки холодно). Самая обычная картина, если не считать хиджаба на девушках. Но на платки в Иране перестаешь обращать внимание довольно быстро. Точно так же, как в Израиле — на молодых людей с винтовками.
Повседневность, ничего интересного.
Сидя в парке, я вспоминаю реакцию знакомых на мое решение ехать. От восклицаний: «Это опасно!» до: «Как вам не стыдно, когда Израиль».