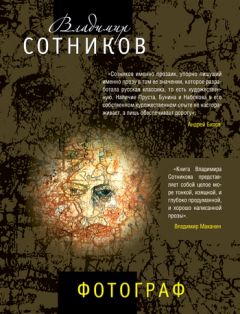За моей спиной на склоне холма стояла охотничья избушка. Когда-то охотники долгими полярными зимами охотились здесь на песцов. Я попытался представить, как выглядело зимовье: в загоне дышали паром олени, повизгивали в сенях собаки, охотники спали в жарко натопленной избушке. Наверное, горела лампадка – единственная точка света кроме тлеющих углей в печке.
Нет, не мог я это представить. Не видел я никогда этой жизни – зачем же тогда вытаскивать из памяти какие-то обрывки из фильмов и прочитанных книг? Избушка хранила свою вековую тайну, и у меня не было разгадки к ней. Только молчаливое уважение к чужому прошлому, какое бывает на заброшенных кладбищах, чувствовал я, когда открывал обитую оленьими шкурами дверь, смотрел на крепкие стол и нары, крупинки соли на полке, зуб мамонта, который так никто и не взял в качестве сувенира за долгие годы – сколько еще мелких подробностей прошлой жизни мог я выудить из этого жилища? Это прошлое я и представлял как некое огромное целое, к которому пытался присоединиться настоящий день. Это и было моим слабым ощущением беспрерывности жизни.
В маленьком оконце виднелось море, накатывались и накатывались на отмель волны – вот так идет время, думалось мне. Я выходил из избушки, оглядывался вокруг, смотрел в сторону лагеря, где сейчас отдыхали после работы такие же люди, как и те давние охотники. Я вспоминал, как впервые увидел этих людей из иллюминатора вертолета, на котором прилетел сюда. Первым ощущением от этих новых лиц была их привычность – к месту, воздуху, общему настроению. И я, сходя по лесенке, щурясь от яркого солнца и неутихающего ветра от винта, уже старался перенять это чувство, без которого нельзя жить на новом месте. Самым странным казалось мне то, что именно от этого чувства я и убежал с Большой земли.
После работы я всегда уходил вдоль берега, далеко от лагеря, к этой избушке. Почему-то здесь я с каждым днем все больше ощущал в себе покой и ту легкость мысленной опустошенности, которую испытывает человек после разрешения какого-нибудь важного для него вопроса. Например, я замечал в людях, которые вдруг приходили к вере, потухнувший внутренний огонь – как будто в лампе прикрутили фитиль и он стал гореть слабым, но ровным пламенем. Или, например, мой друг, несколько лет лихорадочно изводивший меня ночными разговорами об отъезде в другую страну, подав наконец документы на выезд, потерял ко мне интерес – да и в любом разговоре предпочитал уже отмалчиваться.
Но что же случилось со мной, что успокоило меня здесь? – вспоминал я свой каждодневный вопрос, неторопливо вышагивая вдоль отмели. Те два примера, которые пришли мне в голову, не имели ко мне никакого отношения. Мой приезд на этот остров не мог сравниться по значительности с отъездом из страны: я же знал, что через несколько месяцев вернусь на Большую землю к привычной жизни. Моя вера тоже оставалась такой же, – наполненной сомнениями, я не выдерживал вопросов на эту тему, которые задавал себе, и терялся, замирая в неподвижности, как водоросль, вынесенная сильной волной на отлогий песок. Разве что здесь, на острове, появилась одна кощунственная – по отношению к обычной вере – мысль. Я стал видеть то главное разрешение, которое таилось раньше во всех моих вопросах и ответах о вере. Это разрешение было передо мной – в небе, море, линии горизонта. Вот это – Бог, думал я и пугался своего утверждения, как Моисей, увидевший горящую купину.
Но даже эти мои мысли были легки, невесомы, повторялись каждый день неторопливо по дороге вдоль моря, и я называл их странным словом – немногочисленные.
Прошлой жизни, которая казалась каким-то большим объемом позади меня, недоставало маленькой части. И я спокойно ее вышагивал изо дня в день по одной и той же дороге вдоль моря, в направлении к избушке, в которой когда-то жили охотники. Охотники на снегу – назвал я их про себя, потому что жили они здесь зимними полярными ночами, окруженные бескрайними снегами.
Сейчас здесь стоял полярный день, с незаходящим солнцем, и люди, среди которых я жил, почему-то представлялись мне отражением, противоположностью тем охотникам на снегу. И дорога от лагеря к избушке казалась мне – с неназойливой и легкой мыслью это приходило в голову – соединением прошлого и настоящего.
Несколько дней назад пошла вдоль берега рыба, омуль, и рабочие нашей партии готовили свои прошлогодние сети и вытягивали их в море. У всех были свои заветные места. Подойдя к избушке, я увидел на берегу резиновую лодку. От камня, на котором я обычно сидел, в море тянулся шнур сети с частыми поплавками. Они вздрагивали – в сеть попадалась рыба. Над головой повисали, вглядываясь в воду, бакланы – рыбины, застрявшие в сети у самой поверхности, становились их добычей. Я понял, что скоро сюда должен прийти и хозяин сети, и пожалел о потере пустынности «своего» места. Не пойти ли дальше по берегу – мелькнула мысль, – но какая-то сила не пускала меня.
Скоро я увидел идущего от лагеря человека. Издали я узнал его. Мне показалось, я даже обрадовался, что это он, а не кто-то другой. В любой группе людей, среди которых я оказывался, я всегда почему-то выделял одного человека. Всегда находился непохожий на остальных. Я даже думал, что это один и тот же человек под разными личинами встречается мне в разных ситуациях. Все в нем выдавало живую жизнь, редко вспыхивающую в остальных людях – и во мне тоже. Словно свежий излом металлической пластинки, отношение к жизни у этого человека не тускнело от обстоятельств, от настроения. Радовался и расстраивался он всегда с одинаковым запалом, словно говорил всем своим видом: вот оно все перед вами, держите спокойно, и никуда не уйдет. Ладно скроен, крепко сшит, здоров, умен с той быстрой одинаковой реакцией, которая освобождает от запоздалых переживаний за свои слова и поступки. Словом, я чувствовал в этом человеке будто своего близнеца, которому больше, чем мне, повезло от рождения, но все же и ему недоставало чего-то моего. Чего, я не знал – мне все же казалось, что он полон под завязку жизнью.
Вот он и сейчас приближался ко мне вдоль берега, и волны, идущие наискосок, гасли одна за другой у его ног. В памяти у меня побежали имена – глядя на его ладно сидящую одежду, с собственным почерком отвернутые болотные сапоги, я вспомнил армейского Геру. Прапорщик, одевавший нас в карантине, присвистнул от удивления после того, как Гера быстро надел форму, смешно висевшую на всех остальных новобранцах. «Готовый дембель», – гоготнул прапорщик, радостно оживившись.
Идущий берегом человек правой рукой отмахивал чуть-чуть назад, разворачивая плечо, – я вспомнил Валеру, который на походку перенес свою боксерскую привычку вместе с шагом метнуть вперед и руку.
Этого звали Константин. Все в партии обращались к нему коротко – Кость, а Кость, и я слышал почему-то в этом обращении не уменьшенное имя, а значение самого слова, короткого и острого. А когда говорили о нем, то употребляли полное имя – Константин.
– А я тебя искал в лагере, – он бросил к моим ногам пустой мешок. – Сейчас сеть выберу, скажу зачем. Хочешь, помоги.
Стоя в лодке, он перебирал сеть руками, вытаскивая рыбу. Я сидел на корме и отгребал веслами. «Табань легонько», – сказал он. Вспомнилась частушка Высоцкого: «Эх, табань, табань, табань, а то в берег врежемся…» Я подумал: если повторять это странное слово несколько раз, то обязательно появится Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России.
На берегу он переложил из лодки рыбу в мешок, весело ругнувшись, что улов оказался велик.
– Пошли? – сказал он и закинул мешок за спину.
Почему-то не хотелось так сразу оказываться с ним вместе. Но что я скажу – посижу еще? Погуляю?
Пройдя метров сто, он бросил две рыбины с расклеванными головами, которые нес до этого в руке, летевшим за нами бакланам: «От, обжоры!»
– Мужики стреляют бакланов, отпугивают, чтоб не клевали. А по мне, так это неизбежный процент потери. Все питаются как могут.
– А если головы отрезать – нельзя эту рыбу есть? – спросил я.
Он посмотрел на меня, чуть-чуть задержал взгляд.
– Да наверное, можно. А чего ты ходишь сюда? Я раза два тебя видел возле зимовья.
Я удивился: мне казалось, что я всегда здесь находился в полном одиночестве.
– Так. Отдыхаю.
– Ты брось. Место нехорошее. Когда сюда первая партия приехала, рассказывают, в леднике возле избушки вместе с мороженой рыбой стреляный труп нашли. На материк отвезли, закопали неопознанного. А как его опознаешь – неизвестно, сколько лет он пролежал.
Я вспомнил зуб мамонта, все предметы в избушке – вот в чем была разгадка их нетронутости. Как на могиле, нельзя было ничего трогать. Морозец пробежал по спине при воспоминании о моих долгих посиделках внутри избушки.
– А к тебе бабы липнут? – вдруг спросил он.
Я помолчал, поняв, что в разговоре с ним надо не удивляться неожиданностям, а привыкнуть к ним.