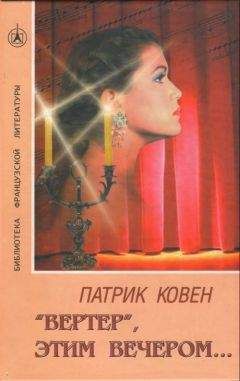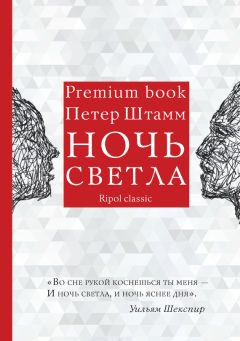Она доиграла арию по мотивам песен Оссиана до финальной ноты, которая еще долго дрожала в тишине. Суховатый звук медленно угасал, словно гигантская умирающая звезда, не способная выжить из-за своих огромных размеров…
Орландо выпрямился и захлопал.
Остальные по-прежнему сидели неподвижно. Между хлопками до него доносилось тяжелое дыхание старого художника, сидевшего ближе всех к нему. Череп его сына блеснул, и как раз в этот момент Карола встала. Он увидал, как яркий отблеск свечи скользнул по ее плечу, на какую-то долю секунды очертив абрис ее тела, и она исчезла во мраке.
Без малейшего колебания он пересек комнату. Его пальцы на ощупь нашли ручку двери. В два прыжка он настиг ее в холле в тот момент, когда она уже ступила на лестницу. Он обнял ее. Теряя равновесие, она повернулась на одной ноге и очутилась лицом к нему. Ночь была темной, и поэтому он не различал ее лица, однако мог бы поклясться, что видел его выражение в этот момент. Их губы нашли друг друга, и влажная свежесть ее рта поразила его.
«Это безумие», — подумал Орландо.
Он почувствовал легкое прикосновение ее ладони к своему лицу и ощутил вкус слезы на губах. Когда любовь соседствует с бедой, у нее соленый привкус…
— Соберите вещи, на рассвете мы уезжаем в Мюнхен.
Она выскользнула из его объятий, и внезапный шум заставил его обернуться.
В сумраке, пронзаемом пламенем свечей, на пороге появился Людвиг Кюн, толкая перед собой кресло Хильды Брамс. Орландо ощутил на себе их взгляды. На коленях увечной примостилась кошка, две яркие зеленые жемчужины светились на ее мордочке. Когда он обернулся, лестница была пуста…
ДНЕВНИК АННЫ ШВЕНЕН
Отрывок II, 17 декабря
Она молчит.
Может быть, когда-нибудь в наших лабораториях экспериментальной психопатологии появятся приборы, позволяющие точно измерять звуковые характеристики тишины. Но даже несмотря на отсутствие таких приборов, я все же слышу, как она уже самим своим молчанием говорит: «Я больше не хочу говорить ни слова».
И у нее есть на это причины. Пусть Антон со мной не согласен на этот счет, но я все же не буду пытаться выудить из нее ни звука, ведь не только при помощи слов можно разгадать ее загадку. Я смотрю на нее. Она в другом измерении, нежели слова. Остальные пациенты ее поняли. Саша находит ее красивой. Он все больше отдаляется от нее. Во время утреннего сеанса он трижды менял место. В третий раз он почти прижался к двери. Я неуверена, что завтра он придет. Более того, он больше на нее не смотрит. Ему это не нужно, чтобы знать, что она здесь, — а это для него важно. Ему нужно бежать от нее, и я должна ему помочь. Саша знает, что любовные истории плохо заканчиваются, и он осознал, какая опасность от нее исходит. У нее лицо-призыв, ее нежная улыбка разбивает в человеке все препоны, делает его беспомощным, подчиняет ее власти… Для Саши, с его-то шизофренией, зависеть от женщины — непозволительная роскошь… Во время сеанса она нарисовала четыре рисунка, но самые важные для меня — те, которые она рисует, когда остается одна. Их я пока не могу объяснить. Там множество абстрактных элементов, связанных между собой по вертикали… Своего рода цепочка. Нечто массивное и прочное, в сочетании прямоугольников есть даже что-то математически неумолимое. Ей доставляет — по крайней мере, так кажется — безмерное удовольствие обставлять свою кровать картонками. Вчера она взяла коробки от упаковок сгущенного молока и выстроила из них возле кровати что-то наподобие стены. Антон считает, что таким образом она обороняется от сексуальной агрессии, однако я так не думаю.
Почему я до сих пор так и не могу нащупать причину ее болезни? Что во мне этому противится? Пока не знаю… А тем временем она здесь уже больше месяца.
Карло Томби хлопнул в ладоши, и Орландо, перепрыгивая через несколько ступенек, побежал по лестнице, ведущей в мастерскую на мансарде. Там он столкнулся с Уолтоном, в то время как Пратти подбежал к рампе. И вдруг все трое покатились со смеху.
— Нет, — заорал Томби. — Изобразите радость, porca madonna, разве вы никогда не видели игроков «Ювентуса», забивших гол «Милану»? Вот что мне нужно — точно такое же веселье. Будто бы вы только что выиграли Кубок…
— Карло, так мы играем Пуччини или играем в футбол?
Томби, перебирая своими короткими ножками, носился по сцене.
— Это одно и то же. Опера — это матч, и именно так ее нужно играть.
Пратти, подбоченясь, восстанавливал дыхание. Уже давно итальянская земля не рождала такого баса. Коллен в его исполнении был самым великолепным со времен Тито Шиавони. Однако было заметно, что спортивные постановки Карло Томби повергали его в смятение.
Для Орландо же они были не в новинку. Томби был величайшим из когда-либо живших зачинщиков беспорядков. Именно с его подачи со сцены исчезли те выстроенные, словно на парад, ряды хористов… Хоры в «Набукко» и «Сицилийской Вечерне» стали притчей во языцех — хитросплетения беглых линий, которые он выстраивал с мастерством хореографа; он знал, как придать толпе свободу и текучесть.
— Вам двадцать лет, у вас целы все зубы, ни одного седого волоска, вы даже не подозреваете о существовании холестерина. Вы свободные поэты, артисты, философы, у вас есть девушки, вы кутите. Не будете же вы это играть с таким видом, будто в ваших руках находится судьба государства. Иначе это превратится в «Бориса Годунова»…
Уолтон взъерошил волосы и пробормотал:
— Даже в «Годунове» он бы заставил попов носиться как угорелых.
Орландо нравился этот великий английский баритон. Они встречались на сценах, в аэропортах. Илмера Уолтона всегда сопровождала женщина, носившая одежду аляповатых расцветок, непривлекательная и несоблазнительная. Однако Орландо смутно ощущал, что ему недостает такой же близости, какая угадывалась между ними…
— Все сначала!
Орландо встал.
— Ты не думал о том, чтобы установить стартовые колодки?
— Не смешно, — рявкнул Томби. — По местам, живо, Рудольф, Марсель, Коллен. Радость, черт возьми, радость… Представьте, что три недели ничего не жрали, и тут появляемся мы с приятелем, и у нас с собой цыпленок и вино… Музыка!
Орландо занял свое место. Не думать ни о чем, просто играть. Сцена Мюнхенского национального театра была просторной. Без прожекторов всё выглядело пыльно-серым; декорации изображали мастерскую с убогими кроватями, загроможденную книгами и старыми картинами. За окнами простирались парижские крыши…
— Поехали!
Едва заслышав вступление виолончели, Орландо Натале сорвался с места. Коллен-Пратти несся вдоль рампы, Уолтон катился вниз по лестнице. На этот раз они встретились точь-в-точь на площадке и закружились, охваченные музыкальной трелью.
— 3:0, — заорал Уолтон. — Я забил мяч головой…
Томби воздел руки.
— Чудесно! Вы настоящие артисты.
Трудно было вообразить что-либо менее напоминавшее оперу, чем эти репетиции. Ведь никто из певцов пока не был охвачен той паникой, которая завладевала ими за несколько секунд до поднятия занавеса. И далеко еще было то внезапное облегчение, с которым при первых же нотах с головой окунаешься в самую безумную аферу, известную человечеству: петь, петь изо всех сил, до полусмерти, до экстаза…
Орландо знал, что в такие мгновения резко бросает в жар, он не раз видел, как пот в первые же минуты смывает грим, и в антрактах, когда певцы возвращаются в гримерки, их лица под румянами кажутся бледными масками живых мертвецов. После каждого спектакля Джанни заставлял его взвешиваться, вел своеобразный журнал здоровья, полный цифр и графиков, таких же точных, как у атлета мирового уровня. После «Лоэнгрина» в «Метрополитен-опере» в 82-м он сбросил три с лишним килограмма. Три двести шестьдесят, если точно. Это был рекорд… Самым изнурительным после Вагнера был Верди: два кило за два часа в образе герцога Мантуанского.
Однако Натале быстро восстанавливал силы. Для этого ему не нужно было ходить к специалисту, он научился самостоятельно превозмогать то чувство бездонной пустоты, которое появлялось после арии, когда мускулы и поджилки тряслись, словно после стометровки, а сердце вырывалось из груди, лихорадочно хватая отсутствующий кислород… Понадобились годы, чтобы научиться справляться с сюрпризами, преподносимыми изнуренным организмом. Ведь в процессе пения участвовало все тело, и еще в Парме его старый профессор из «Вилла Сантанера» не раз говаривал: «Пальцы на ногах, Орландо, даже пальцы на ногах обязаны петь. Ты должен чувствовать мелодию всем телом, вплоть до пальцев на ногах. А горло — всего лишь переходник…» Знавал он одну меццо-сопрано, которая спала двадцать часов кряду после каждой «Нормы». Этим объясняется и кажущаяся кокетливость, и капризы певцов. Кто-то мог петь «Андромаху» с гриппом, но, подхватив легкий насморк, был не в состоянии исполнить захудалую роль четвертого плана. Оперные певцы — самые хрупкие из артистов. Пошатнуть их карьеру может даже насморк. Голос меняется, «светлеет» или «тускнеет», теряет окрас и твердость. Вот уж воистину, самый хрупкий и изменчивый человеческий орган. Фантастический инструмент, подвластный старению и способный меняться в зависимости от сиюминутного настроения и состояния мыслей…