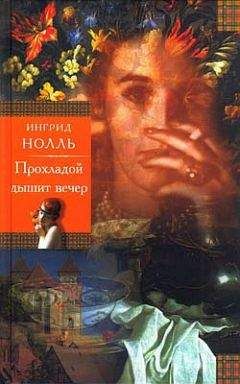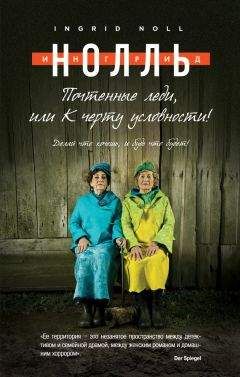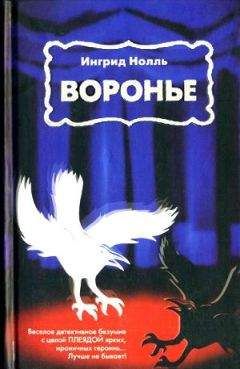Райнхард проглотил остатки макарон, выслушал меня как-то даже благожелательно, предсказал дождь и наконец без малейшего любопытства открыл конверт. Жемчужина покатилась по столу.
— Что это? — произнес муж.
— Дай посмотреть! — отозвалась я с самым невинным видом и уставилась на драгоценность, будто видела ее впервые.
— Ничего себе! — присвистнул мой благоверный. — Парнишка пошел в атаку! А я-то наделся, что Лара его уже отшила.
— При чем тут Лара? — запротестовала я. — Посмотри внимательно, что на конверте написано. Этот подарок точно для тебя.
Муж прочитал надпись, повертел письмо во все стороны и объявил, что ничего не понимает.
И тут настал мой черед. Допрос был с пристрастием, разговор вышел не из приятных, дошло до крика. Райнхард, конечно, изо всех сил все отрицал, я обзывала его похотливым козлом, а он меня — безмозглой козой. В конце концов муж окончательно вышел из себя. «Господи, да что ж это такое!» — возопил он и швырнул жемчужину в мусорное ведро, откуда я ее позже выудила.
Да, кажется, он не врет, подумала я, слишком уж разбушевался, вряд ли притворяется. Наверное, все было так: Райнхард где-нибудь эту бусину потерял и какой-то честный малый ему ее вернул. Так?
Муж отверг и эту версию. Он, мол, не носит с собой повсюду в кармане жемчуг, словно сказочный принц, и тем более не разбрасывает его где попало. И вообще, до сих пор не было у него никаких жемчужин в жизни, разве только Гюльзун, уборщица в его офисе.
— Ты бы лучше рассказала еще о своей сестре. Вместо этого я должен выслушивать черт знает что, какие-то нелепые подозрения. Ты сестру сто лет не видела, почти ее не знаешь, так нет же! У тебя в голове одни розы, сердечки какие-то и жемчуга! Мне иногда кажется, что ты все это специально выдумала, чтобы меня доставать!
Тем не менее в ночь на понедельник он решил залечь в засаду и поймать незнакомца на месте преступления.
«Пусть мне даже придется торчать тут всю ночь!..» — его и без того высокий голос сорвался почти на визг. Ну, по крайней мере, он не держит меня за полную идиотку.
В итоге мы оба лежали в постели. Райнхард спал и храпел, я немножко поплакала и тоже уснула. И приснилась мне Эллен, которая в образе Царицы ночи сидит верхом на молодом месяце в одеянии, тяжелом от жемчуга, и невыносимо высоким пищащим голоском о чем-то меня предупреждает, предостерегает. Такой звук — я помню с детства — издают умирающие мыши.
Чтобы отвлечься, на другой день я занялась нашим семейным портретом. Писать его мне, конечно, придется долго. Моя мать лечила тогда свою скрученную радикулитом спину на курорте, и я написала ей, чтобы по возвращении домой она сразу же выслала мне две копии с фотографии моего покойного брата Мальте. Одну из них я задумала подарить Эллен, о чем маменьке, конечно, не стала докладывать.
К счастью, у меня осталось еще несколько кусков стекла. Я выбрала самый крупный и набросала композицию. Проблема была в том, что все персонажи на снимках были разного размера, к тому же для общего портрета слишком маленькие, их придется увеличивать.
Больше других меня впечатлила бабушка с отцовской стороны: прямая как свечка, она застыла со сложенными на коленях руками на стуле с высокой спинкой. Белокурые волосы убраны в высокую прическу, темное платье все в мелких складках, на шее — нитка жемчуга. Только черепа на коленках не хватает, а то была бы просто кающаяся Магдалина. Смутно припоминаю, что папочка называл ее строгой матерью, которая щедро трескала их по лбу столовой ложкой. Но я эту даму в живых не застала, мне и отец-то в деды годился.
До следующего «розового понедельника» оставалось четыре дня. Тут я вдруг получила от Эллен по почте посылку, тоненькую и твердую, как деревянная доска. Каково же было мое удивление, когда я распаковала ее и между двух плотных картонок нашла акварель, которую наш папочка написал в юности. Кто бы мог подумать, что он вообще когда-то брал кисть в руки?! Сюжет отец выбрал самый простой, неброский: вечер, поле, ручей, деревья. Мне вдруг впервые в жизни захотелось любить моего папу. И я решила изобразить его на семейном портрете не старым и больным, каким он мне запомнился, а молодым человеком, которому когда-то захотелось перенести на бумагу этот мирный пейзаж.
Райнхард заявился домой раньше обычного и увидел на кухонном столе большой кусок стекла, разложенные фотографии и альбом с набросками разных фигур и групп людей. О моем грандиозном проекте муж еще ничего не знал.
— Ты что, «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи скопировать собралась? — съязвил он.
Я бросилась с жаром объяснять.
— Спасибо, что меня не забыла, — сострил Райнхард, — а моя родня где будет, можно узнать?
Вот досада, о них-то я и забыла совсем! Я стала считать: даже если убрать кое-каких дядюшек и тетушек, все равно получится тринадцать человек, и всех надо разместить в нашем саду.
— Многовато будет, — решила я.
Муж тут же потерял всякий интерес к портрету.
— Когда будем есть? И куда ты задевала папку с документами?
По его легкому швабскому выговору я поняла, что он слегка нервничает. Я тут же убрала свое художество прочь со стола и призналась, что до сих пор не напечатала ни слова. А потом поспешно принялась готовить ужин.
— Дальше так не пойдет, — отозвался Райнхард раздраженно, — лучше я возьму на работу профессиональную секретаршу.
Мне бы только радоваться, что кто-то наконец избавит меня от этой писанины, но все-таки стало обидно: он хочет взять секретаршу не для того, чтобы меня освободить от работы, а потому, что я не справляюсь.
Но на этом не кончилось. Мой благоверный стал мне выговаривать, что я всегда была склонна к истерике, а теперь у меня и вовсе начинается психоз. Я слушала с каменным лицом. У-у-у… Старо как мир: муж изменяет жене, она все чувствует, — у женщин ведь шестое чувство, их не обманешь, — а он пытается ей внушить, что у нее крыша поехала от ревности. Что ж, Райнхард своего добьется: я или вправду свихнусь, или руки на себя наложу. Ну уж нет! Не выйдет! Видели мы это уже в кино, в книжках читали! Нас голыми руками не возьмешь.
День спустя, пройдясь по магазинам, я сделала небольшой крюк и заглянула на минутку к Райнхарду в бюро. Если бы муж уехал на стройку, то позвонил бы, он всегда переключает свой офисный телефон на домашний, когда отлучается с рабочего места. Уходя утром из дома, я включила автоответчик.
Его автомобиль стоял у входа в бюро. Значит, он у себя, за чертежами, так я и думала. «Дворники» не прижимали к лобовому стеклу его машины ни цветов, ни тайных посланий. Но, поднявшись на второй этаж, я обнаружила на подоконнике в цветочном горшке крошечный саженец розы. Я ему такого тут не ставила! Как он, интересно, изловчится это объяснить? Ладно, не буду действовать ему на нервы, не буду ни в чем обвинять, я-то тоже ничего доказать не могу.
Райнхард сам никогда не покупал никаких цветов: ни букетов, ни в горшках. «Вон сколько их за городом растет, рви не хочу», — говаривал он. Порой он вдруг начинал неистовствовать в нашем саду: корчевал какие-то кусты, втыкал на их место чахленькие деревца, на которые смотреть было жалко, выкапывал в лесу елочки и рассаживал их по всему участку, а потом они подрастали и закрывали солнце моим однолетним подсолнухам. Но особенно он учудил, конечно, со всякими палисадами, беседками, зелеными заборчиками, живыми изгородями и лесенками из железнодорожных шпал. Так сад изуродовать, надо постараться. Если я открывала по этому поводу рот, он обижался. Оказывается, я еще благодарна ему должна быть за то, что он избавляет меня от тяжелой физической работы.
Вот Люси меня понимала. Ее Готтфрид тоже творил в саду бог знает что, особенно после того, как увлекся экзотическими растениями. Его бедные саженцы, у кого-нибудь выклянченные или привезенные кем-то из отпуска, в нашем климате были похожи на больных детей, над которыми не смыкая глаз трясутся родители. Заморские травки замерзали зимой и засыхали летом. А их заботливый папочка Готтфрид критики в свой адрес, понятное дело, не терпел и за свои мучения садовника жаждал похвалы и вознаграждения.
Зато у Сильвии все было по-иному: у себя дома она была хозяйка и парадом командовала тоже она. Если в солнечное воскресенье она не сидела на лошади, то по саду разносился ее командирский голос:
— Удо, надо удобрить герань! Зачем летом скворечник на дереве висит? Убери его до осени в подвал! Удо, грядки с укропом заросли крапивой!
И Удо плелся полоть крапиву, видимо, его постоянно мучила совесть из-за его вечных сердечных дел, оттого он прямо-таки желал быть наказанным.
Что ж поделать, не могут двое с разными вкусами мирно ужиться на одном клочке земли, равномерно распределить обязанности, не могут не ссориться. Наверное, и Адам с Евой спорили, что им посадить в своем райском садике: осенний ранет или летний штрифель, белый налив или желтый гольден. Так и представляю себе, как на весь Эдем раздается: