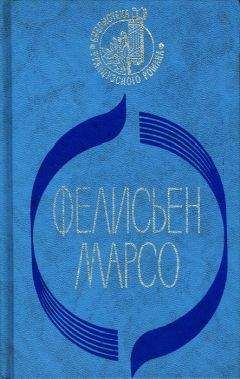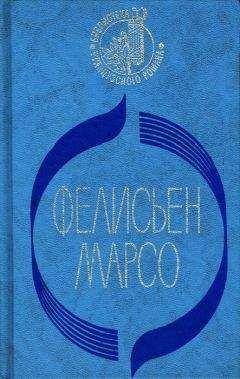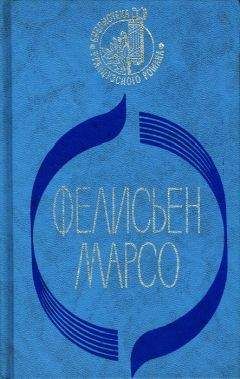Подошел шофер со стаканом в руке. Он смотрит на игру с видом знатока. Он говорит, что это трудно. Потом уходит. Кризи почти не заметила его ухода. Она играет с ожесточением. Даже не смотрит на меня, протягивая руку: «Еще один франк, пожалуйста». Бесстрастный бармен протягивает мне из-за машины монеты. Она играет уже тридцать вторую партию. Лампочки, звонок, тиканье, цифры на экране. Внезапно Кризи надоело. Мы опять в машине. Кризи несется. Я ей говорю: «Не туда». Она смеется, встряхивает волосами. Какое-то время, прижавшись щекой к моей щеке, Кризи мчится прямо на светящуюся придорожную тумбу. Я смотрю на эту светящуюся тумбу с полным безразличием. В последнюю секунду Кризи оставляет тумбу в стороне. Я говорю ей: «Налево». Она поворачивает направо. И все это на сумасшедшей скорости. Мы едем по длинной пустынной, совершенно незнакомой мне улице. Кризи тормозит. В своей манере, внезапно. Я налетел на ветровое стекло. Она не дает мне удариться. Ее губы впиваются в мои губы. Она вся прилипает ко мне. Она говорит: «Ты ведь спасешь меня, правда?» От чего. Я знаю, что должен ее спасти, но от чего? Я спрашиваю: «От чего?» «Ты никогда ничего не понимаешь». И добавляет: «Это не то, совсем не то». А тогда что? Сама-то она знает? Мы в ночи, посреди ночи, на пустой улице, которая мне кажется улицей — вакуумом. А разве были ли мы где-нибудь еще, кроме ночи? Или где-нибудь, кроме ослепительно-белого такого же непроницаемого дня? Кризи разворачивается, чтобы ехать обратно. Фары машины выхватывают из темноты дома, потом изгороди, и над изгородью возникает Кризи в оранжевых бикини, на водных лыжах, на гребне волны, посетите Багамы. Она несется на нас из небесной лазури, украшенной флажками. У меня от этого екает сердце. У Кризи, похоже, нет. Еще какую — то долю секунды Кризи остается перед нами, над нами, огромная, бросающаяся на нас словно для того, чтобы догнать нас, задержать. Потом машина заканчивает разворот и Кризи пропадает во мраке. Мы проезжаем улицу, площадь, мост, густую поблескивающую Сену и вдруг оказываемся на автодороге. Вокруг нас гудит туннель. И мне все это нравится: эти удары, эти рывки, скрип шин на асфальте, и эти виражи во всех направлениях, словно какой-то фейерверк. Я засыпал. Я хочу сказать: в своей жизни. Кризи трясет меня, как шейкер. Лампочки щитка приборов и мелькающие фонари золотят ее резко очерченный, устремленный вперед, как бы возникающий из гудения мотора профиль. Мы съезжаем с автодороги. В свете больших фонарей поля кажутся плоскими и блестящими, прихваченными изморозью этого пустого света. По обе стороны дороги взлетают, скользят деревья. Словно кто-то их вырывает, косит, валит. Кризи больше ничего не говорит. Устремив вперед свое лицо, она вся целиком пребывает в туннеле шума, скорости, урчания мотора. Мы проезжаем деревню. Фары освещают белую стену, вынырнувшую перед нами, словно испуганное лицо. Потом идет улочка, извилистая, поднимающаяся вверх между двумя шероховатыми стенами. Фары прыгают из стороны в сторону, как будто перед нами бежит фотограф, пьяный от вспышек собственного фотоаппарата. Мы подъезжаем к большой развязке, где скрестились пять или шесть дорог. Достигнув самой высокой точки, Кризи останавливает машину. Мы выходим. Под нами громоздятся длинные арки, длинные горбатые скаты, которые уходят вдаль, возвращаются, опорные столбы, своды, черные плоскости, белые блестящие плоскости, лунный свет неоновых ламп, белый и бледно-серый под высокими столбами. А дальше, вокруг, во все стороны — сплошная темнота. Это как колокол для ныряльщиков, только огромный, огромная бетонная стальная пустыня, где воздух кажется более разреженным, пространство — абстрактным, пустынным и застывшим. Мы уезжаем. Кризи делает вираж за виражом. Мы крутимся по этой развязке, по этому открытому лабиринту, и неоновые лампы, когда мы проезжаем под сводами, устремляют на нас свои зеленоватые лучи. Мы выезжаем на дорогу, которая уходит вправо. Из ночи выныривает большой ансамбль зданий, похожих на скалы, некоторые окна еще горят, а ниже струится тусклый и пустой свет фонарей. Машина под нами приподнимается. Эстакада выносит нас на площадь, довольно просторную, квадратную, окруженную аркадами, затерявшуюся среди строений. На площади есть забегаловка типа американского «Арогстора». Поскольку время уже позднее, она функционирует уже вполсилы: основная часть зала затенена, но над стойкой еще горит желтый свет. Мы входим. Барменша за стойкой и три молодых парня напротив нее смотрят на нас. Они склонились друг к другу, сгрудившись в лучах желтого света. Своим решительным шагом Кризи направляется к игральному автомату, это «журавль»: какие-то пташки посреди фасолевых зерен. Кризи резко дергает рычаг. Там, где она стоит, на границе темной зоны, ее лицо освещается только небольшой витриной игрального автомата. Она нетерпеливо трясет аппарат. Один из парней говорит: «Эй, это все-таки не танк». Остальные тихонько пересмеиваются. Я вижу на горизонте потасовку. Я был бы не против.
Возбуждение Кризи передалось и мне. Но взгляд вспыхнувших зеленых глаз Кризи заставил парней повернуться к стойке, уткнуться в свои стаканы, отчего теперь видны только их затылки, барменша, мучнистая блондинка с мучнистым оттенком лица, одаривает меня приятной улыбкой. Мы выходим. Под аркадой есть еще магазин игрушек, весь в огнях. На витрине — костюм, костюм Зорро, лассо, рапира, маска, плоская шляпа и плащ на красной подкладке. Кризи рассказывает мне о маленьком мальчике, не знаю кто он такой, сын кого-то, не понимаю кого, который перенес скарлатину, и его нужно утешить. Зорро, это великолепно! Нужно все это купить. Мы идем покупать. Но уже час ночи. Дорогая Кризи, уже второй час, магазин закрыт. Кризи ничего не желает слышать. Что же это такое, в конце концов, собираются они торговать или нет? Закрыто! Это немыслимо! Безобразие! В Лас-Вегасе магазины всю ночь работают. Надо позвонить. Где звонок? Нету звонка! А если бы было что-то срочное? Дорогая Кризи, это ведь магазин игрушек. Уже час ночи. Мы купим это завтра. Не станем же мы сюда возвращаться ради какого-то набора игрушек. «Я схожу в большой магазин». Но я уже знаю, что для Кризи завтра — это слишком поздно. Завтра Зорро и сын кого-то исчезнут, будут вычеркнуты из памяти, забыты. Зорро — это сейчас. Она топает ногами. Каблучки ее сапожек стучат по каменным плитам. Мы уезжаем. Под нашими колесами проносятся эстакада, дорога, развязка. Неподвижные, мы мчимся в ночи. Деревья валятся как от ударов дзюдоиста. Есть рев мотора, есть тусклый свет, есть дорога и несущиеся нам навстречу здания. Мы едем по небу, мы едем по морю. Держась одной рукой за руль, другой вцепившись в мой затылок, Кризи дико целует меня. Потом она вдруг поворачивает направо, колеса пронзительно скрипят. Кризи мчится прямо к большому черному прямоугольнику, я кричу: «Эй!» Под воздействием не знаю чего, какого-нибудь секрета в мостовой, какого-нибудь электронного глаза черный прямоугольник исчезает. Резкий свет бьет нам в лицо, машина скатывается вниз, мы — в гараже дома.
После этого проходит четыре дня, в течение которых мы остаемся наедине друг с другом, сидим взаперти в этой коробке, не выходя на улицу, питаемые и оберегаемые Снежиной. Четыре дня, ограниченные шестью плоскостями, с которых над нами отовсюду нависают и смыкаются, словно большие плотоядные цветы, гигантские изображения Кризи. Четыре абсолютно одинаковых дня, вернее даже сказать, один день, слитый воедино, словно река, словно железобетонный монолит, с пылающим за витражом солнцем, с присосавшимся к витражу, точно медуза, солнцем, с прилипшей к витражу, точно присоска, темнотой, и я с Кризи, погруженные, опрокинутые, впившиеся друг в друга, ползущие друг к другу по серо-черному паласу, обвивающие друг друга, переплетающиеся, два вензеля, ее тело, смешанное с моим, ее тело, ставшее моим, ее наслаждение, превращенное в мое наслаждение, я, ставший ею, она, ставшая мною, она, пахнущая деревом, воском, сандалом, я, пахнущий деревом, воском, сандалом. Вот она сидит на мне, вся прямая, ее шея, словно райская птица, и я вытянутыми руками держу ее грудь. Я ее опрокидываю, карточный домик рушится, гостиная кружится, плакаты опрокидываются, я оказываюсь в ней, ее пятки колотятся о палас, и она коротко, прерывисто стонет. В одну и ту же секунду раздается наш крик. И взгляд ее, как медленный прилив, как скользящий луч маяка, возвращается ко мне, в ее распахнутые глаза, в ее зеленые глаза, наполненные оцепенением. «Где ты, моя Кризи? Где ты, детка моя, радость моя, надежда моя, жизнь моя? Откуда ты возвращаешься?» — «Я возвращаюсь из тебя».
Мы идем в ее спальню. Мы идем и ложимся на ее кровать. Нам больше не нужно перекидывать друг другу подушки. Теперь Снежина заранее снимает покрывало. Она кладет мою пижаму и ночную рубашку Кризи. Однажды вечером она даже разложила их так, что рукава моей пижамы обнимали ночную рубашку. Можно ли было ожидать такое от Снежины? Но что мне известно о Снежине? На маленьком ночном столике всегда стояли какие-то коробочки, флаконы — все то, чем Кризи постоянно пользуется: вечером для того, чтобы заснуть, утром — чтобы проснуться. В первую же ночь я все убрал, все попрятал в ящички зеленого секретера. Кризи этого больше не требуется. Едва наступает полночь, она проваливается в сон, как в открытый люк, как в пропасть. Однажды ночью я попытался ее разбудить. Тщетно. Рядом со мной — лишь монолит тишины, монолит темноты. Но ее рука лежит у меня на груди, ее пальцы вцепились в мое плечо. Однажды ночью она храпела. На следующий день я сказал ей об этом. А не надо было. Целых полчаса она держалась со мной чрезвычайно холодно, и потом, когда мы занимались любовью, в ней сохранилось внутреннее напряжение: ее выгнувшееся дугой тело стремилось к наслаждению, но наслаждение не пришло. Я разбил настоящее, разрушил хрупкий ледок минуты. Тогда я этого не понял. Обычное течение дней возобновилось, возобновился медленный вихрь часов. Проигрыватель работает без остановки. По двадцатому, пятидесятому разу мы ставим одни и те же пластинки, знакомые до тошноты — гром барабанов, стоны струн, американские голоса — Little John, о Jericho, о sweetheart, and you alone, gold river, my love, одни и те же мелодии, одни и те же движения, мы вдвоем в этой коробке, вдвоем в этих шести плоскостях, почти без движения, во всех наших жестах — какая-то тягучесть, повсюду вкус наших тел. К одной из этих мелодий Кризи придумала свои собственные слова. Она напевает их не переставая: goodie, goodie, ночь, ночь. Она повторяет их, выкрикивает их, спускаясь по лестнице: goodie, goodie, ночь. И я тоже их напеваю: goodie, goodie, ночь. И Снежина на кухне или когда она приносит тарелки, тоже поет goodie, goodie, ночь. Проходя мимо меня, она озаряет меня основательной улыбкой. Признала ли меня Снежина? Судя по всему, да. Полюбила ли она меня? Но что и кого здесь любят? Кто в этой коробке? Кто в этом вакууме, на крайнем выступе скалы?