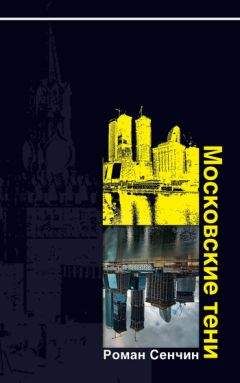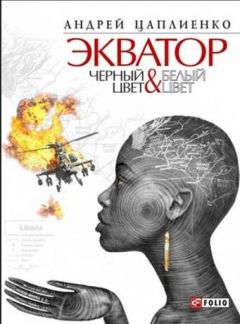Ознакомительная версия.
– Дорогие родные, близкие и знакомые, – начала женщина, когда музыка, плавно затихая, умолкла совсем, – собрались в этом скорбном здании, чтобы проводить в последний путь, – она говорила, стоя на возвышении, на этом подобии подиума, говорила негромко, но внятно, и акустика зала усиливала ее слова, звуки отражались от стен, потолка, метались по помещению, – в последний путь Анну Савельевну Зюзину, замечательного человека, педагога, отдавшую всю свою жизнь…
Мне вдруг стало жалко ее, нет, не умершую, а эту говорившую… Она напомнила мне другую женщину, из загса, – когда я женился, помню, слушая вымученно-радостный голос нарядной, с какой-то огромной цепью на шее, тети, думал, что вот, может, у нее сегодня случилось какое-нибудь горе, а она должна стоять здесь и делать вид, что радуется двум придуркам, решившим слиться в законном браке и отныне мучиться вместе… А у этой, может быть, радость, наоборот, но она изо всех сил прячет ее, скорбит вместе с нами о совсем чужом для нее человеке, об утрате давно пережившей свой век старушонки.
– …Теперь прошу желающих сказать несколько слов. – Она выделила «несколько» и поежилась, кажется, подавив желание взглянуть на часы.
Повисло молчание. Все смотрели на брата, ждали слов от него. Он потянулся, выпустил из груди тяжелый хрип, заговорил дрожащим, искренним голосом:
– Р-родная… Родная моя Аничка… Что ж… вот и пришло в-время расстаться… – И он заплакал, вытянул из кармана платок, вытер глаза, просморкался. – Помнишь, Аня… как в сорок первом, как провожала меня?.. – Снова прервался, задохнувшись от слез. – Она, она была настоящим человеком! Н-настоящим творцом! Она столько воспитала замечательных!.. – Он словно кому-то доказывал, что Анна Савельевна прожила свою жизнь не зря, прожила ее, как надо. – Ты, ты была настоящим коммунистом, Аня! И я кланяюсь тебе не только от себя лично, но… но и от лица нашей родной партии, в которой ты, – голос его неожиданно окреп, слезы исчезли; он говорил теперь твердо, даже как бы радостно, – в которой ты состояла и работала пятьдесят четыре года!.. Твоя жизнь, Анна, это образец, это светлый пример для других, для всех нас! Прощай, родная моя сестра, п-прощай… – И снова заплакал, положил на умершую свой букетик, наклонился, поцеловал ее. Отступил, утирая слезы и вздрагивая.
Слово взял директор школы… Да, с Анной Савельевной уходит целая эпоха; он счастлив, что был с ней знаком, работал с ней вместе; он пришел в школу совсем молодым пареньком, сразу после института, и она многому его научила; как глубоки были ее знания, как интересно она умела рассказывать, она была истинным интеллигентом; именно такие люди, как Анна Савельевна, зовутся учителями с большой буквы… Одна из женщин из районо выразила глубокую скорбь, боль невосполнимой утраты от всего коллектива районо, вспомнила, какой отзывчивой и бескорыстной была Анна Савельевна…
– Дорогие мои, – нашла паузу и скорее заполнила ее хозяйка церемонии, – добавить можно многое. Много теплого сказать. – Она вздохнула, давая понять, что наше время вышло. – Но минута расставания приближается…
Снова музыка… Пошли вокруг гроба, целуя покойницу, кто в губы, кто в лоб… Витя, не желая, видимо, участвовать в этом, направился за крышкой, я с ним… Наконец-то кончается. Ну и холодно же здесь! Я представлял крематорий другим. В каком-то фильме: там печь рядом, люди прощаются, и гроб тут же, при них, заезжает в огонь. А здесь… Когда попрощались, женщина со знанием дела поправила цветы, накрыла лицо покойной кисейным покрывалом. Дала нам знак, что можно опускать крышку. Затем переставляем гроб с тележки-кушетки на мраморную плиту. Пауза. Мощно воет орган. Женщина выжидает с полминуты, чтоб обозначить момент самого последнего прощания, а потом нажимает кнопочку где-то в ограде. Плита и гроб медленно опускаются, на месте плиты остался прямоугольник черного отверстия. Я невольно тянусь, пытаюсь туда заглянуть, ожидая увидеть блики огня. Нет, там холодно и темно.
Вот, слава богу, и закончилось. Автобус везет нас, я надеюсь, в школу, на поминки. Кремация – это, в общем-то, те же похороны, одинаково прощаешься с образом человека, а пепел – совсем уже что-то другое. И уже все равно, что потом сделают с урной, главное – с телом разделались.
Теперь в салоне много людей. Лена, те похожие друг на друга ребята, еще несколько учеников Анны Савельевны, ее брат… Витя незаметно исчез, наверное, отправился на извоз… Все молчат, смотрят в пол, на то место, где стоял недавно гроб. Автобус двигается медленно, то и дело останавливается перед светофорами, попадает в пробки.
Скорей бы приехать. Я голоден и непривычно трезв, и я хочу получить награду за свои старания. Я часто оборачиваюсь к окну, пытаюсь узнать места, по которым едем. Вот широкая, забитая машинами улица, кажется, это Люсиновская. Автобус сворачивает в переулок. Да, правильно, уже близко. По Стремянному мы пробираемся к Павелецкой площади.
Пассажиры стараются сохранять на лицах печать скорби, но ярче на них отражается удовольствие предстоящего застолья, выпивки, разговоров. Застолье, по какому бы поводу оно ни состоялось, все равно застолье. Оно приятно само по себе… Лишь брат покойной, по-моему, скорбит искренне: глаза у него светлые и слепые, на губах застыла полуулыбка – он вспоминает. Детство там, отрочество, юность… Сейчас воспоминание оборвется, сознание вернет его в настоящее, в жизнь, которая опустела еще на одного родного человека, и ему станет тоскливо и зябко, ведь вполне вероятно, что следующий – он.
– Михаил Савельевич, это Роман, вот он с дочерью Анны Савельевны разговаривал, – подвела ко мне старика Лена.
– Здравствуйте, – сухо, четко выговаривая каждую букву, сказал он, протягивая свою сморщенную, в старческих родинках, руку.
– Здравствуйте, – я пожал ее, чувствуя кости, покрытые холодной, похожей на мятую тряпочку, кожей.
Он пытался держаться прямо, хотя годы и горе гнули его тело, горбили, потряхивали. И когда он говорил, голос его тоже постоянно сбивался на дрожание.
– Вы разговаривали с Натальей… Как она? Что сказала?
Мы стояли в фойе, направо по коридору столовая, и оттуда доносился скрип сдвигаемых столов, возбужденные голоса, и вкусный запах еды стелился по школе, возбуждая меня, приятно щекоча нервы… Лена что-то бормотнула и ушла в столовую, наверное, помогать.
– М-м, ну, сказала, что прилететь не успеет, денег на билет не может найти, – стал вспоминать я. – Спрашивала, как тут все, я ее успокоил.
Старик смотрит значительно и сурово, словно я в чем-то виноват или по крайней мере – за что-то ответственен.
– Просила вам сообщить… Сообщили…
– Вот дошло до чего, – качнул головой Михаил Савельевич, – родная дочь не смогла на похороны матери прибыть. А телеграмму когда ей послали?
Что, он главным энтузиастом этих похорон меня, что ли, считает?
– Не знаю, это у Елены надо спросить. Я сам вчера вечером только узнал… о случившемся.
С улицы вошел Витя Бурков. В руках – туго набитые пакеты.
– Сэн, хватай! Рвется! – крикнул он. – Осторожно, бутылки здесь!
Я подхватил один из пакетов, радуясь, что меня отвлекли от этого нудного разговора.
– В столовую нести? – И пошел туда вслед за Витей.
На лицах участников поминок одинаковое выражение: всем порядком хочется жрать. Бродят вдоль столов, поглядывают на еду, ожидают момента, когда раздастся призыв: «Все готово, можно рассаживаться!» А на столах-то много вкусненького, помянуть старую учительницу приготовились как следует. Суетливые женщины привычно расставляют вазочки, тарелки, бутылки, это они умеют – готовить, со вкусом накрыть на стол, – было бы что… Стопочки блинов, печеные куры, салатики, селедка под шубой, «Ферейн», кагор, «Привет»… Да, теперь-то я оттянусь.
– Сэн, давай вот здесь, поговорим хоть путем, – предложил Витя, когда подали сигнал приступать. – Я машину поставил, так что можно как следует…
– Давай, конечно.
Мы сели рядом, напротив нас – те похожие друг на друга парни. Михаила Савельевича посадили во главу стола, как самое почетное лицо. Пришли стайкой директор, женщины из районо, учительницы, тоже заняли места. Сейчас все несколько скованы, никто не решается хозяйничать, первым совать ложку в салат, открывать водку… Но, спасибо директору, он все же взял на себя обязанности руководителя.
– Уважаемый, гм, Михаил Савельевич, уважаемые коллеги, ученики, – начал он громко, размеренно и скорбно, – давайте помянем нашу дорогую Анну Савельевну. Пусть… м-м… земля будет ей пухом!
Он отпил из кружки кисель, откусил блин и сел… Жевали в молчании, потупя глаза, усиленно и дружно выражая боль утраты прекрасного человека… Кисель был густым и приторно сладким, а блины слишком напитаны растительным маслом… Что ж, необходимо хотя бы показать, что тебе тяжело, больно, принять правила, если уж ввязался в эту игру… И я осторожно ел блин и пил кисель, склонив голову, смотрел на ближайший ко мне салат.
Ознакомительная версия.