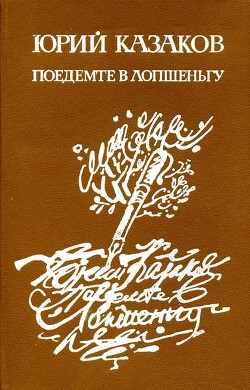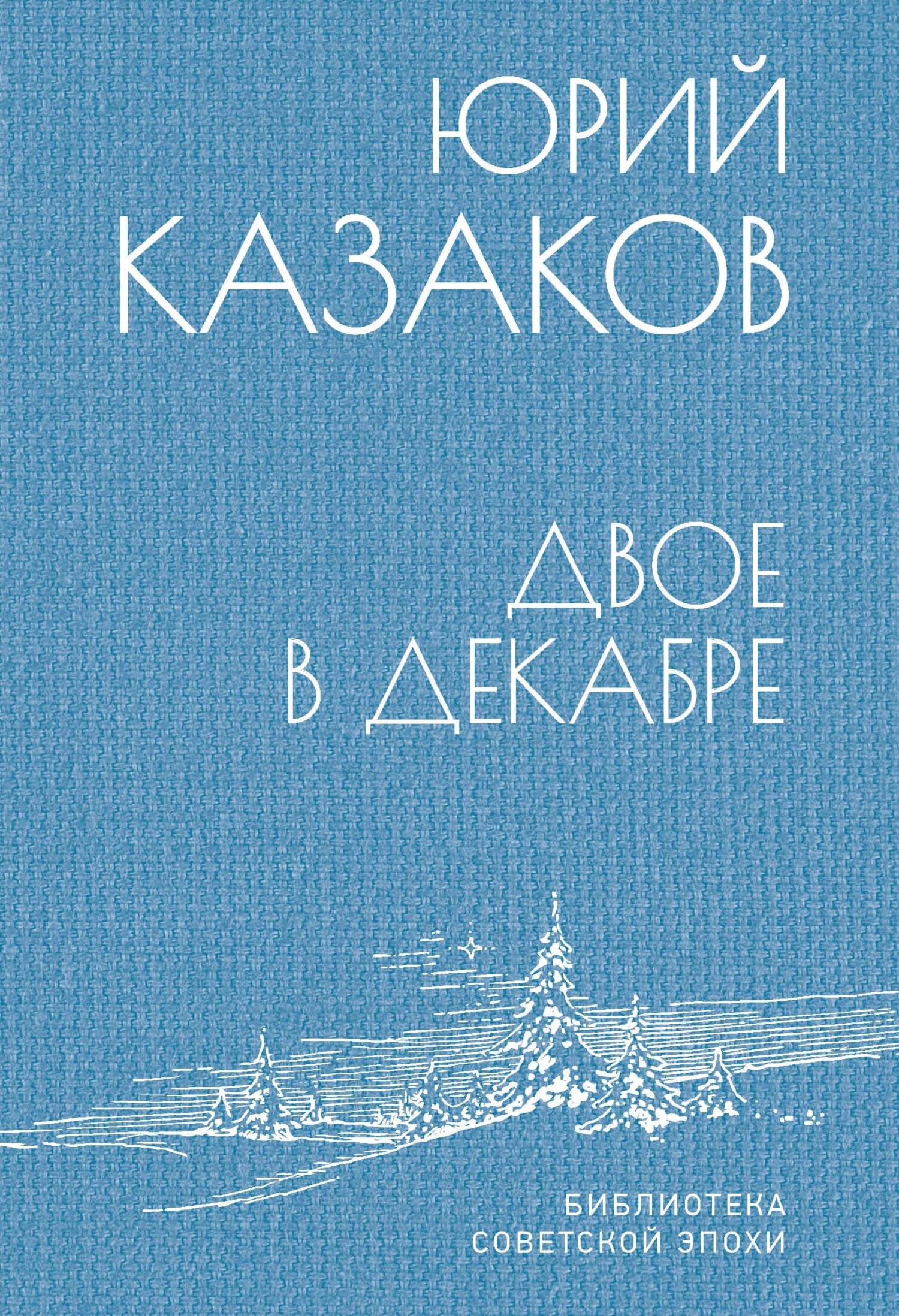— Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго.
Я вздрагиваю. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!
Некоторое время я молчу, собираясь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы тоже люблю…
Потом я снова надолго умолкаю. Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В сто раз лучше шляться вечерами с ребятами. В конце концов, я тут рядом живу, я могу уйти домой, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как напряжены ее щеки.
Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу. Возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что публика в фойе плохо слушают оркестр. Она относится к нему немного свысока. Слушают и аплодируют только передние, а те, кто сзади, едят мороженое, конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Никогда раньше не обращал я внимания на них, но теперь я страшно заинтересован. Я думаю о художниках, которые их написали. Очень хорошо, что картины эти повесили в фойе. Пусть себе висят.
Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Странно, я совсем почти не гляжу на нее, но почему-то все время вижу ее лицо. Какая она красивая! Впрочем, она не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Лиля размышляет.
Нет, я больше не могу стоять рядом с ней! Почему она так меня рассматривает?
— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но, когда в комнате много дыму, когда воздух совсем сизый от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь — в курилке много людей. Одни спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно: если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку, пуская дым вверх. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут.
Нет, я все-таки дурак. Другие так легко знакомятся, разговаривают, острят. Другие, я знаю, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике.
А Лиля все-таки жестокая. У нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, по мягкости характера я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.
Наконец звонок. Я медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет, и начинается кинокартина.
Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я вообще перестаю думать. Просто иду и молчу. На улицах уже малолюдно. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.
Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, и не во всех окнах уже горит свет, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще светятся. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки там больше не слышно. Некоторое время мы стоим совсем молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы… Наконец я очень небрежно, как бы между прочим, говорю, что нам не мешало бы встретиться завтра. Я рад, что во дворе темно и она не видит моего пылающего лица.
Лиля согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.
Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощанье. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.
2
На другой день я прихожу к Лиле засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они только что вернулись? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам с улицы. Заглядываю в окно и откашливаюсь.
— Лиля, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это просто замечательно, что у меня не прервался голос!
Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.
— Идите скорей! — зовет меня Лиля.
Но мне невыносимо идти двором.
— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на подоконник. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на подоконник, перебрасываю ногу и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на подоконнике: одна нога — на улице, другая — в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю.
— Ну, лезьте же! — нетерпеливо говорит Лиля. Брови ее сходятся и щеки все больше краснеют.
— Не люблю летом торчать в комнатах… — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Я лучше подожду на улице.
Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они там смеются теперь надо мной! Зачем я пришел сюда? Зачем мне выставлять себя на посмешище? Лучше всего уйти. Можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.
На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно читать и наоборот, с конца, тогда получаются смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее: какая она симпатичная и умная!
Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных из века в век ходило по Тверскому бульвару! Теперь идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.
Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный, длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью, одному.
Вдруг я замечаю, что у Лили расстегнулось платье. У нее чудное платье, я таких ни у кого не видел — от ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулось, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улице в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь ловкое, смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает.
Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще в трудные минуты лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.