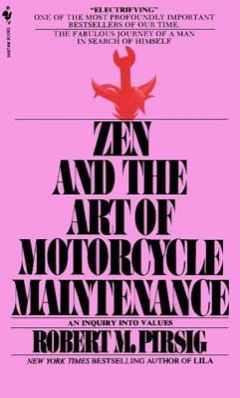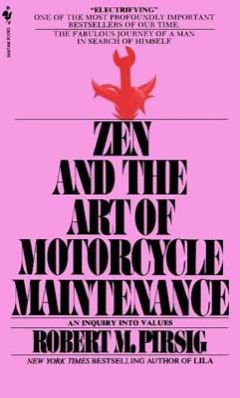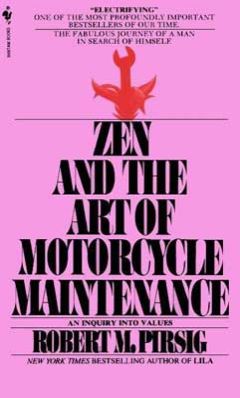На окраине находим ресторан, садимся и ждем за столом, накрытым красно-белой скатертью. Крис разворачивает номер «Мотоциклетных Новостей», который я купил в мотомагазине, и вслух читает, кто победил во всех заездах, и заметку о мотокроссах по пересеченной местности. Официантка смотрит на него с легким любопытством — потом на меня, на мои мотоциклетные башмаки, потом записывает заказ. Уходит обратно на кухню, снова выходит и смотрит на нас. Наверное, она обращает на нас столько внимания потому, что мы здесь одни. Пока мы ждем, она закладывает несколько монет в музыкальный автомат, а потом приходит наш завтрак — вафли, сироп, сардельки, ах — и с ними музыка. Мы с Крисом болтаем про то, что он видит в «Мотоциклетных Новостях» и голосами перекрываем шум пластинки так расслабленно, как разговаривают люди, проведшие вместе много дней в пути; а краем глаза я вижу, что эта сцена безотрывно наблюдается. Через некоторое время Крису приходится переспрашивать одно и то же дважды, поскольку этот пристальный взгляд несколько сбивает меня, и трудно обдумывать то, что он говорит. Пластинка — с каким-то кантри про водителя грузовика… Я заканчиваю разговор с Крисом.
Когда мы уже уходим, и я завожу мотор, она — вот, в дверях, смотрит на нас. Одинокая. Вероятно, не знает, что с таким взглядом ей недолго ходить одинокой. Жму на стартер слишком резко, слишком раздраженный чем-то, и на пути к сварщику требуется некоторое время на то, чтобы отключиться.
Сварщик дома, старик за шестьдесят или за семьдесят, смотрит на меня пренебрежительно: полная противоположность официантке. Я объясняю ситуацию с кожухом цепи, и через некоторое время он произносит:
— Я не собираюсь снимать его за вас. Снимайте сами.
Я слушаюсь, показываю кожух ему, и он говорит:
— Он весь в смазке.
На заднем дворе под каштаном нахожу палку, соскабливаю смазку в мусорную бочку. Издали он произносит:
— Там, в кастрюльке немного растворителя есть.
Я вижу плоскую кастрюльку и стираю остаток смазки какими-то листьями и растворителем.
Когда я показываю ему свою работу, он кивает, медленно подходит и устанавливает регуляторы газовой горелки. Потом смотрит на мундштук и выбирает другой. Абсолютно никакой спешки. Он берет стержень стального наполнителя, и я задаю себе вопрос, действительно ли он собирается варить такой тонкий металл? Я никогда не варю листовой металл, я его паяю латунным стержнем. Когда я пытаюсь его приварить, только прожигаю дырки, и потом приходится латать их большими кляксами наполнителя.
— А вы разве не будете его паять? — спрашиваю я.
— Нет, — отвечает он.
Разговорчивый мужик.
Он зажигает горелку, устанавливает крохотное голубое пламя, а потом — это трудно описать — действительно начинает танцевать горелкой и стержнем в разных маленьких ритмах над тонкой поверхностью металла, и все это место превращается в равномерное желто-оранжевое сияние; он опускает горелку и стержень именно в тот момент, когда нужно, и быстро убирает их. Никаких дырок. Шов едва виден.
— Это прекрасно, — не выдерживаю я.
— Один доллар, — отвечает он без улыбки. И я улавливаю в его взгляде смешной вопрос. О чем он думает? Не запросил ли слишком много? Нет, тут что-то другое… одиночество, такое же, как у официантки. Вероятно, думает, что я прикалываюсь. Кто еще способен сейчас оценить такую работу?
Мы складываемся и выезжаем из мотеля почти со временем выписки — и вскоре углубляемся в прибрежные мамонтовые леса на пути из Орегона в Калифорнию. Движение такое сильное, что не хватает времени даже оглядеться. Становится холодно и серо, и мы останавливаемся надеть свитеры и куртки. По-прежнему холодно, где-то около пятидесяти, и нам в голову лезут зимние мысли.
Одинокие люди там, в городе. Я это видел в супермаркете, и в прачечной, и когда мы выписывались из мотеля. Эти туристские автостоянки в мамонтовых лесах, с пикапами, полными пенсионеров, глазеющих на деревья на пути к тому, чтобы поглазеть на океан. Улавливаешь его в первую долю взгляда какого-нибудь нового лица — это искательное выражение — и оно тут же пропадает.
Теперь заметно больше такого одиночества. Парадоксально, что там, где люди толпятся наиболее тесно — в больших городах на побережьях Востока и Запада, — одиночество самое сильное. Там, где мы были, — в западном Орегоне, Айдахо, Монтане, в Дакотах, где люди так рассеяны, — там, казалось бы, одиночества должно быть гораздо больше, но мы его не замечали.
Объяснение, я полагаю, в том, что физическое расстояние между людьми не имеет ничего общего с одиночеством. Здесь главное — психическое расстояние, а в Монтане и Айдахо физические расстояния велики, а психические, между людьми — малы; здесь же как раз наоборот.
Мы теперь — в первичной Америке. Это наступило позапрошлой ночью в Прайнвилл-Джанкшн, и с тех пор нас не покидало. Вот она — первичная Америка скоростных автотрасс, реактивных полетов, телевидения и кинозрелищ. И люди, пойманные этой первичной Америкой, кажется, проходят огромные порции своей жизни, не особенно сознавая, что же находится непосредственно вокруг них. Средства массовой коммуникации убедили их: то, что вокруг них, не важно. Поэтому они одиноки. По лицам видно. Сначала — легкий проблеск поиска, а затем, когда они смотрят на тебя, ты для них — просто какой-то объект. Ты не считаешься. Ты — не то, что они ищут. Ты — не в телевизоре.
Во вторичной же Америке, через которую мы тоже ехали, в Америке старых дорог, Канав Китайца, аппалузских лошадей, плавных горных хребтов, медитативных мыслей, ребятишек с сосновыми шишками, шмелей, открытого неба над головой — миля за милей за милей, — через всю эту Америку то, что реально, то, что вокруг — доминирует. Поэтому там не было такого чувства одиночества. Так наверное было сто или двести лет назад. Едва ли были люди, едва ли было и одиночество. Я, несомненно, сверхобобщаю, но если ввести сюда должные квалификации, то это окажется правдой.
За многое в этом одиночестве обвиняют технологию, поскольку одиночество определенно ассоциируется с новейшими технологическими приспособлениями — телевидением, реактивными самолетами, скоростными трассами и так далее, — но я надеюсь, достаточно ясно было сказано: подлинное зло — не объекты технологии, а тенденция технологии замыкать людей в одиноких отношениях объективности. Это объективность, дуалистический способ смотреть на вещи, лежащие в основе технологии, производит на свет зло. Вот поэтому я потратил столько сил на то, чтобы показать, как технологию можно использовать для уничтожения зла. У человека, который знает, как чинить мотоциклы — с Качеством, — меньше вероятности потерять друзей, чем у того, который не знает. И они вовсе не будут рассматривать его как объект. Качество каждый раз уничтожает объективность.
Или, если человек принимается за какую бы то ни было тупую работу, на которой застрял — а все занятия становятся рано или поздно тупыми — и, только ради собственного развлечения начинает искать возможности для Качества и тайно следует этим возможностям, просто ради них самих, тем самым творя искусство из того, что делает, — то он, вероятнее всего, обнаружит, что становится все более интересной личностью и все менее объектом для окружающих его людей, поскольку его решения, связанные с Качеством, изменяют и его самого тоже. И не только его работу и его самого, но и остальных, поскольку Качество склонно расходиться в стороны, как круги на воде. Качественная работа, которую никто, как он считал, не увидит, все-таки видима, и человек, видящий ее, чувствует себя немного лучше из-за нее, и больше вероятность того, что он передаст это свое ощущение дальше, другим. Вот таким способом Качество имеет тенденцию продолжать движение.
Мое внутреннее чувство таково, что именно так мир и будет улучшаться: личностями, принимающими решения Качества, вот и все. Господи, не хочу я больше никакого энтузиазма по поводу больших программ, полных социального планирования для огромных масс людей, выбрасывающих вон индивидуальное Качество. Их можно пока оставить в стороне. Для них тоже есть место, но их надо строить на основании Качества внутри вовлеченных в это дело личностей. В прошлом у нас это индивидуальное Качество было; его эксплуатировали как естественный запас, не зная об этом, а теперь оно почти полностью истощилось. У всех почти что кончилась сметка. И я думаю, настала пора возвращаться к восстановлению этого американского запаса — индивидуальной ценности. Есть политические реакционеры, которые говорят что-то подобное уже многие годы. Я не из их числа, но до той степени, пока они говорят об истинной индивидуальное ценности, а не используют ее как предлог для того, чтоб давать богатым больше денег, они правы. Нам действительно нужно вернуться к индивидуальной цельности, самонадежности и старомодной сметке. Действительно нужно. Надеюсь, в этом Шатокуа некоторые направления показаны.