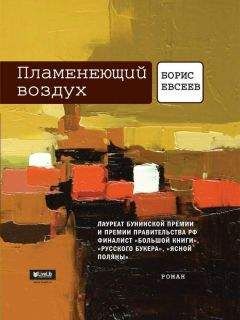Ушаков был счастлив. В Европе негодовали: Империя учреждает Республику! Что это, если не знак окончательного искажения замысла Господня?
В том же 1799 году, в дымно-туманном феврале, Федор Федорович Ушаков штурмовал французскую крепость на острове Корфу. Море бурлило и на мелководьях окрашивалось кровью. Гром пальбы перекрывал треск рушимых скал. Крепость была взята, виктория была полной.
А в апреле начался итальянский поход князя Суворова-Рымникского. Поход длился до августа и завершился еще одной викторией: полной и бесповоротной.
Ну а в сентябре все того же исполненного событий 1799 года произошло и нечто из ряда вон выходящее. Перевалив Сен-Готард, Суворов миновал ущелье, называемое Чертов Мост, и накрыл сверху — словно громадной треуголкой — швейцарские луга и поля, вкупе с французами, их заполонившими. Накрыл не готовую к таким варварским наскокам Европу. Этими действиями Суворов испугал не Буонапарте: испугал австрийского императора и самого Павла Петровича. Суворов получил звание генералиссимуса, но был тут же отозван и до Парижа — поставленной перед самим собой цели — дойти не смог…
(Что было в грохоте швейцарского похода приятного — и Евстигней Ипатыч это слышал это отчетливо — так это то, что при обрушении скал, при мелькании над пропастями адских видений пели тонко, затейливо и как-то совсем по-новому — подобно Орфеевой арфе, перестроенной на новый лад — горные итальянские снега...)
Наконец — изящно и далекоглядно завершив год 1799-й образованием Русско-Американской компании, — был вытряхнут из мешка и год 1800-й!
Тут уж Хронос всеобщий (а не только Русский Хронос) раззявил рот как можно шире и приготовился заглатывать города, села, монархии, республики, армии, полки! Горы, дороги, корабли, скиты, монастыри, дамбы, верфи, каналы!..
И только одна музыка, скрепленная мелосом слов, пробивала жадный Хроносов рот навылет! Безостановочно и без замедлений, и без гибельного для себя ущерба!
Образ Русского Хроноса приводил в смятение и магнетизировал. Однако ничем иным, кроме все той же музыки, воздействовать на него Евстигней Ипатыч не мог. От истинных (а не мыслительных) соприкосновений встреч сей Хронос ловко уклонялся. Да и летал высоко, далеко!
Зато рядом, под боком, проживал Филька — «издевочный слуга». Рыжеватый, проворный, схожий с брыкливым козлом и еще черт его знает с кем!
Как-то само собою случилось, что еще во времена написания «Ямщиков» Филька, напросившись к Фомину простым услужающим, перепрыгнул шутя из услужающих в персонажи. Стал «издевочным слугой», встроился в мысли о грядущих комических операх. В тех операх (еще только замышляемых) живей и ухватистей всех иных персонажей был как раз ловкий, прислуживающий нескольким господам сразу пройдоха. По-новому — типус, обобщенный образ. В Европе таковыми были Санчо Панса, Жиль Блаз, Лепорелло. А вот в России «издевочный слуга» имел пока облик неясный. И телесный облик, и внутренний. Вот (думалось) Филька Щугорев тот облик собой и напитает, вот и оживит!
Про телесный облик «издевочного слуги» Фомин размышлял с наслажденьем. При этом поглядывал на Фильку со значением и надеждой. Думал: такого вот «обновленного черта» в новую комическую оперу — возьми да со всеми потрохами и вставь!
Однако Филька быстро от таких мыслей капельмейстера отвадил. Показал, кто в доме слуга, кто хозяин. Гости нередко выставлялись вон, постель — в поисках припрятанных ассигнаций — оказывалась перевернута, листы нотных записей все напрочь перепутаны.
«Вот ты и доразмышлялся! “Издевочный слуга” управлять тобою начал!»
— Да вы не извольте, барин, про деньгу беспокоиться! — вел и вел свое, от новороссийского солнца как чертяка потемневший Филька. — Слыхал я, в трактире изволили бормотать: дескать, слуга вам не по карману (хотя сами же изволите в дорогом месте, близ Адмиралтейства квартировать), — посвистывал сквозь зубы Щугорев. — Так я предложить осмелюсь: без оплаты прислуживать вам стану. А вы за то новую оперу в мою честь назовите! Пущай так и зовется: «Филька Щугорев, или Издевочный слуга». А я... я настоящим барином помогу вам сделаться. С имением, с прислужницами-с!
В тот день Фомин был особенно мрачен.
— Да я барином ввек быть не желаю!
Издевочный Филька скривил щеку, затем скривился набок и сам.
— Это как же такое возможно? Не сыскать ведь на Руси остолопа, который не желал бы — из грязи да в князи! Не хотел бы хоть на час барином стать!
— А вот я не желаю. Да и не хуже я никакого барина. Потому как я — творец музыкальный!
— Творец? Ах ты боже ж ты мой… Ну-ну...
Издевочный сладко сощурился и как бы про между прочим предложил:
— Так, может, с десяток годков лишних? Не хотите ли? Будучи в Екатеринославле научился я у цыган жизнь растягивать. Поверите ли? Как ту лошадиную шкуру! До желаемой длины-с. И черт здесь вовсе ни при чем! Сами, по-людски управимся. Мне теперь энти фокусы, как вам нотная грамота, известны. Да я и сам, барин, грамоту специяльную выдать вам могу. Так и будет прозываться: «Филькина грамота». А в ней-то и продление жизни, и все иное протчее!
Тут Евстигней Ипатыч открыл было рот, чтобы промолвить: «А вот о продлении жизни подумаем», — но вместо этого вылетело:
— Тебя кто подучил? Уж не Адонирамовы ль братья? Ах, неуч, ах, дрянцо! Божьим промыслом тут поигрывать будешь! Вон!
Вместо того чтобы, устыдясь, уйти, Филька расхохотался:
— Я-то уйду, да ведь другой явится. Уж он вам покажет кузькину мать!
— Не пугай. Пуганный. Меня и Адонирамовы братья, и колдуны с воловьими шкурами пугали…
— Адонирамовы — што! Дети они. А вот вдруг кто из Риму явится? Слуга ордена скромного какого. Тогда побледнеете! Сгинете вы, барин, и в могиле сопреете…
— Ах, рвань… Ну-ка живо отсюда!
Тут Филька заерзал в кресле, а там к Евстигнею Ипатычу поближе — скок! Да за место заднее его — хвать!
— Вон оно чему тебя цыгане выучили! Погоди же... — Фомин кинулся к укладке, выхватил оттуда дорогую пистолю. — Вон, сей же час! Пистоля у меня заряжена, враз башку разнесу!
— И не цыгане вовсе выучили, другие... Не стреляй барин, пощади... — зарюмзал Филька.
Евстигнеей Ипатыч пистолю — впрочем, незаряженную — опустил.
Вежливо поклонившись, и опять загадочно усмехаясь (как будто и не было никакого нытья), Филька Щугорев, издевочный слуга, вывалился в дверь.
Но перед тем, оглянувшись, промолвил тихо-ласково:
— Экая ты, барин, собака... Натуральная ты, барин, собака и есть.
На следующее утро Филька, как ни в чем не бывало, явился вновь.
Стал ругаться на Петербург.
— Что за морока жисть городская? Хужей ее только жизнь столичная. Сей город — разумею Санкт-Питер-Бурх — смешон мне! Опосля степных просторов, опосля крымских скал глупо тут все... Судейские хабар тянут, приказные и купецкие сыны зря бушуют. Народонаселение — слабое, хилое. Вот и ты, барин... Я тебя вчерась собакой назвал, а ты в меня даже стрельнуть и не смог, палкой не огрел...
В тот же день, прихватив с собой некоторое число припрятанных на черный день ассигнаций и две чисто переписанные партитуры, — Филька исчез.
По странному переплетению жизненных линий некий неизвестный слуга — хоть и нельзя в точности про него сказать, что он «издевочный», — доставлен был в те поры к государю Павлу Петровичу.
Со слугами Павел старался бесед не вести. Этот, однако, болтал дерзкое, неслыханное, к далекому будущему относящееся. Болтал: «Через сто и еще двадцать лет никаких слуг в России не будет вовсе».
«Как такое произойти может?» — Павел Петрович задумался.
Слугу доставили во дворец.
Разговоров о будущем, в последние месяцы императором особо ценимых, однако, не получилось. Приметив дерзость вошедшего и услыхав первые слова его, Павел Петрович закричал хрипло: взять в оковы, в Сибирь, с глаз долой, из уха — вон!
Издевочный же слуга — что было отмечено дежурным офицером в специяльном журнале — по выдворении своем как-то по-особому усмехался: сладко-покорно, но и со скрытой хищностью. Сопровождаемый тем же дежурным офицером, был он выведен за пределы дворца и взят в оковы. Правда, на следующее утро — в шесть часов и десять минут — императору доложили: издевочный слуга, расковавшись, исчез бесследно.
Павел Петрович о слуге издевочном вскоре забыл.
А Фомин — не забыл, нет! Да и как забудешь — когда опять дымит Филька табаком в кресле, опять про Кременчуг, Екатеринослав, про созданную там покойным князем Потемкиным музыкальную Академию рассуждает. Зовет в ту Академию Фомина, помощь по службе обещает.
Филькиной настырности уступая, Евстигней Ипатыч стал подумывать: не изменить ли оперу «Американцы», не вогнать ли туда поганца Фильку на место буффона Фолета? И тем самым от «издевочного слуги» отвязаться, отправить его — хотя б в опере — в Америку!