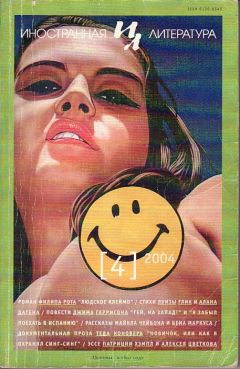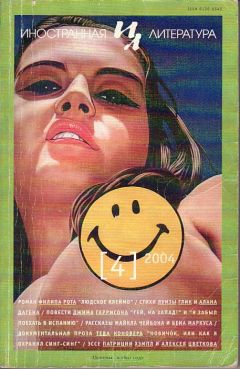— Не может быть.
— Здрасте, не может быть. Да знаю я, кто ты такой. Слава богу, жила на Юге. Всяких видела. Знаю, конечно. Чем, по-твоему, ты меня взял? Тем, что профессор? Да я бы скорее сдохла.
— Что-то я не верю тебе, Фауни.
— Как тебе угодно, — сказала она. — Ну, ты кончил свои расспросы?
— Какие расспросы?
— Насчет самой поганой из моих работ.
— Конечно, — ответил он. И стал ждать ее расспросов. Но не дождался. Похоже, ей действительно было безразлично. И она не убежала. Историю свою он все-таки ей рассказал, и она слушала, слушала внимательно, но не находила в ней ничего невероятного и даже странного. И уж конечно не видела в его поведении ничего предосудительного. Нет. Просто жизнь как она есть.
В феврале Эрнестина мне позвонила — может быть, потому, что настал месяц афроамериканской истории и она вспомнила, как объясняла мне, кто такие Мэтью Хенсон и доктор Чарльз Дрю. Может быть, она решила, что пора снова взяться за мое просвещение с упором на то, от чего отрезал себя Коулмен, — на полный до краев, дарованный ему в готовом виде мир Ист-Оринджа, на эти четыре квадратные мили, битком набитые самыми что ни на есть стойкими земными подробностями, на это лирически-незыблемый фундамент правильного детства и отрочества. Поддержка общины, твоя лояльность, справедливая борьба, сыновство, отцовство — все это принимается как данность, принимается на веру, и в этом не видят ничего теоретического, внешнего, иллюзорного… Все то драгоценное, что окружает счастливое начало полнокровной, горячей, исполненной здравого смысла жизни, которую ее брат Коулмен перечеркнул.
К моему удивлению, Эрнестина, сообщив мне, что в воскресенье к ней приедут из Асбери-Парка Уолтер Силк и его жена, сказала затем, что, если я не прочь совершить путешествие в Нью-Джерси, она будет рада увидеть меня на воскресном обеде.
— Вы хотели познакомиться с Уолтом. И я подумала, что вам, может быть, будет интересно посмотреть дом. У нас есть фотографии, я вам покажу комнату Коулмена, где они спали с Уолтером. Потом это была спальня моего сына, но старые кленовые кровати так там и стоят.
Итак, я получил приглашение в семейное гнездо Силков, которое Коулмен отверг как место своей неволи, чтобы жить в среде, соразмерной его ощущению своего масштаба, чтобы обрести новое, более подходящее ему лицо — и чтобы под конец над ним взяла верх иная сила. Отверг все скопом, весь этот разветвленный негритянский мир, думая, что иначе ему не вырваться. Столько пламенного стремления, столько тайных планов, страсти, хитрости, маскировки — и все для того, чтобы оставить родной дом и перемениться.
Стать другим существом. Заново родиться. Вот она, драма, лежащая в основе американской повести, высокая драма ухода и оставления позади. Вот она, жестокая энергия, питающая этот восторженный порыв.
— Приеду с удовольствием, — сказал я.
— Я не могу ничего гарантировать, — предупредила она. — Но вы взрослый человек и сумеете о себе позаботиться.
Я рассмеялся.
— Что вы хотите этим сказать?
— Уолтеру восьмой десяток, но он по-прежнему большая, раскаленная, ревущая топка. Он будет говорить такое, что вам не понравится.
— Про белых?
— Про Коулмена. Про расчетливого лжеца. Про бессердечного сына. Про предателя своего народа.
— Так вы сказали ему, что брат умер?
— Да. Решила все-таки. Мы одна семья. Я все сказала Уолтеру.
Несколько дней спустя я получил по почте фотографию, которую сопровождала записка от Эрнестины: „Я наткнулась на эту карточку и вспомнила о нашей встрече. Примите как память о Вашем друге Коулмене Силке“. Это был выцветший увеличенный черно-белый снимок размером примерно четыре на пять дюймов, сделанный, скорее всего, на чьем-то заднем дворе простеньким аппаратом „брауни“ и представляющий Коулмена той самой боксерской машиной, с какой сталкивался после стартового гонга любой его противник. Ему здесь никак не могло быть больше пятнадцати, но те самые некрупные черты точеного лица, что в пожилом возрасте придавали ему неотразимое мальчишеское обаяние, подростку помогали выглядеть не по годам мужественным и зрелым. Он уставил в объектив недобрый неотпускающий взгляд боксера-профессионала — взгляд хищника, наметившего жертву, взгляд, из которого изгнано все, кроме желания победы и вредоносного расчета. Взгляд-приказ, ничуть не менее властный из-за маленького подбородка, остро уткнувшегося в худое плечо. Перчатки приведены в классическое положение готовности и словно бы заряжены не только его кулаками, но и всем совокупным импульсом полутора мальчишеских десятилетий — причем каждая больше в окружности, чем лицо. Невольно создается впечатление парня о трех головах. Я боксер, — дерзко заявляет сама эта грозная поза. — Я их не нокаутирую — я устраиваю им избиение. Делаю с ними что хочу, пока они не прекращают бой. Да, верную характеристику дала ему сестра. „Сама непреклонность“ — так и было написано на обороте снимка выцветшими синими чернилами. Судя по всему, ее невзрослой рукой.
А она тоже будь здоров какая, подумал я и, отыскав для юного боксера пустую рамку, поставил его на мой письменный стол. Храбрость в этой семье не с Коулмена начинается и не на нем кончается. Это смелый подарок, подумал я, от смелой женщины — каково бы ни было первое впечатление о ней. Что, интересно, кроется за ее приглашением? Что, интересно, кроется за моим согласием к ней приехать? Странно, что нас с сестрой Коулмена так потянуло друг к другу, хотя не так уж и странно, если помнить, что все касающееся Коулмена было в десять, в двадцать, в сто тысяч раз страннее.
Приглашение Эрнестины, фотография Коулмена — вот из-за чего в первое воскресенье февраля, после решения сената не смещать Билла Клинтона с должности, я поехал в Ист-Ориндж, и вот почему я оказался на проложенной среди холмов глухой местной дороге, по которой я практически никогда не езжу, но которая быстрей всего должна была вывести меня на 7-е шоссе. Вот как вышло, что я вдруг заметил стоящий у дороги на краю широкого поля, мимо которого я иначе промахнул бы не глядя, видавший виды пустой серый пикап с наклейкой на бампере: „Военнопленные и пропавшие без вести“. Несомненно, пикап Леса Фарли — я сразу это понял и, не в силах ехать дальше как ни в чем не бывало, затормозил. Пикап был уже позади меня, и, подав машину обратно, я встал прямо перед ним.
Видимо, я не вполне сознавал, что делаю, — иначе разве я сделал бы это? — но к тому времени прошло почти уже три месяца, в течение которых жизнь Коулмена Силка была мне ближе, чем моя собственная, и поэтому нечего было и думать, чтобы я поступил по-другому, чтобы я не вышел на зимний холод Беркширских холмов и не положил руку в перчатке на капот той самой машины, что вечером накануне семьдесят второго дня рождения Коулмена понеслась как бешеная по встречной полосе дороги и вынудила Коулмена, рядом с которым сидела Фауни, резко повернуть и, пробив ограждение, упасть в реку. Вот оно, орудие убийства, — а раз так, и сам убийца должен быть недалеко.
Когда я вспомнил, куда направляюсь, когда я снова подумал о том, как все это, в сущности, удивительно — звонок Эрнестины, приглашение на встречу с Уолтером, неотступные мысли весь день, а нередко и добрую часть ночи о человеке, которого я не знал и года, с которым хоть и дружил, но не так уж безумно близко, — ход событий показался мне закономерным. Когда пишешь книги, так оно и бывает. Мало того, что какая-то сила заставляет тебя до всего докапываться, — эта же сила принимается выкладывать все на твоем пути. Вдруг оказывается, что нет такой богом забытой дороги, которая не вела бы тебя прямиком в твою навязчивую идею.
И ты делаешь то, что сделал я. Коулмен, Коулмен, Коулмен — ты, которого больше нет, стоишь теперь в центре моего бытия. Еще бы ты мог сам написать книгу. Твоей книгой стала твоя жизнь. Писать о себе — значит, выставляться и таиться в одно и то же время, но ты только и мог, что таиться, и затея была обречена. Сама твоя жизнь стала твоей книгой — и твоим искусством? Искусством быть белым человеком, быть, по словам твоего брата, „белее белых“. Твой неповторимый акт вымысла: каждое утро просыпаться тем, кем ты себя сделал.
Снега на земле уже почти не было, только заплатами там и сям на пустом, утыканном стерней поле, так что следов он не оставил, и я наудачу двинулся туда, где виднелась реденькая цепочка деревьев, сквозь которую проглядывало следующее поле. Я пересек и его, прошел через другую, более широкую и плотную полосу деревьев, на сей раз хвойных, и по ту сторону мне сияющим оком открылось замерзшее озеро, продолговатое и заостренное с обоих концов, окруженное коричневатыми, пятнистыми от снега холмами. На отдалении плавными ласковыми линиями вырисовывались более высокие холмы. Отойдя от дороги на каких-нибудь пятьсот шагов, я вторгся — да, именно вторгся, чувство было такое, словно я посягнул на чьи-то владения, — в ту безмятежную первозданность, что порой окружает внутренние водоемы Новой Англии. Такие места — за что их и ценят — наводят на мысль о мире, каким он был до появления человека. Природа подчас оказывает дивно успокаивающее действие, и здесь было именно так: уже не думалось о пустом и объеденном, и в то же время тебя не подавляло ощущение крохотности нашего жизненного промежутка и безмерности уничтожения. Ничем величественным здесь и не пахло. Этой красотой можно проникаться, не чувствуя себя маленьким и не испытывая страха.