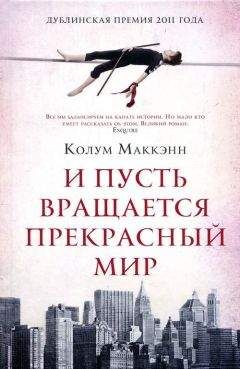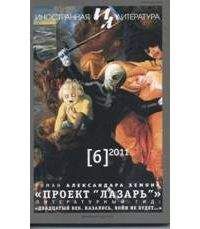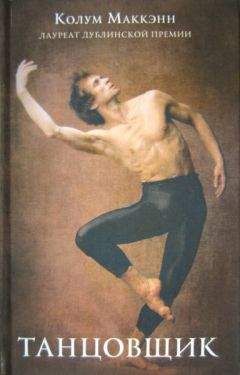Где-то на середине полета она просит принести ей джин с тоником, и итальянец протягивает вперед двадцатидолларовую купюру, чтобы заплатить за напиток.
— В былые времена поили бесплатно, — говорит он.
— Вы всегда путешествуете на широкую ногу? Шикуете?
Она недовольна собой — взяла слишком резкий тон, но иногда это случается, слова вылетают изо рта под неуклюжим углом, будто с самого начала разговора она встает в защитную стойку.
— Я? Ну что вы, — говорит итальянец. — Шику со мной не ужиться.
Так и есть: вышедший из моды широкий воротник рубашки, пятно чернил под нагрудным карманом. Он выглядит мужчиной того сорта, что стригутся самостоятельно. Не совсем обычный итальянец, но что такое вообще «классический итальянец»? Ей самой не по нутру то и дело слышать от людей, что она не похожа на «нормальную» афроамериканку, — так, будто где-то существует коробка с надписью «Нормальные», из которой, как чертики на пружинке, выскакивают люди: шведы, поляки, мексиканцы… Что это вообще значит, она не похожа на «нормальную»? Не продевает в уши золотых хулахупов? Ведет себя сдержанно, одевается сдержанно, все под контролем?
— Итак, — говорит она, — что вам сказали в аэропорту?
— Посоветовали никогда больше не шутить.
— Боже, храни Америку.
— Плохие шутки мы выжигаем железом. Кстати, вы слышали ту, про…
— Нет, нет!
— Про человека, который пришел к врачу с застрявшей в носу морковью?
Она уже смеется. Итальянец жестом просит разрешения пересесть поближе.
— Да, пожалуйста.
Она удивлена немедленно возникшей атмосферой взаимной симпатии, приглашает его присесть в соседнем кресле через проход, даже поворачивается к нему, еще больше сокращая дистанцию. Ей часто становится не по себе в компании мужчин и женщин одного с ней возраста, ее беспокоит их внимание, их желания и намерения. Она высока, с тонкой и гибкой фигурой, у нее кожа цвета корицы и белоснежные зубы за красиво очерченными губами, она не пользуется косметикой. Впрочем, ее темные глаза всегда будто хотят вырваться на волю, за пределы миловидной внешности. Окружающие воспринимают это свойство ее глаз как некую внутреннюю силу, видят в ней умного и опасного человека, пришельца из других миров. Время от времени она пробует пробиться сквозь стену собственной настороженности, но всякий раз сдается, выдыхается. Чувствует, как бурлят в ней необузданные эмоции былых поколений, но ей никак не вскипятить их.
На работе она из тех начальниц, у которых ледяная кровь. Когда из компьютера в компьютер начинает кочевать очередной офисный прикол, ее электронный адрес почти никогда не попадает в список рассылки; она бы с удовольствием посмеялась вместе со всеми, но такая возможность представляется крайне редко, шутить с ней избегают даже ближайшие коллеги. Работающие в фонде волонтеры шепчутся за ее спиной. Даже когда, одетая в футболку и джинсы, она присоединяется к ним на улице, ее не покидает неуловимое напряжение: плечи собраны в четко выверенную линию, манеры подчеркнуто холодны.
— …И доктор с ходу говорит: «Я уже знаю, что с вами не так».
— Да?
— «Вы неправильно питаетесь».
— Опа-на! — говорит она, пугающе близко опуская голову к его плечу.
* * *
Четыре пластмассовые бутылочки из-под джина постукивают на его откидном столике. Попутчик кажется ей чересчур сложным человеком. Родом из Генуи, разведен, двое детей. Успел поработать в Африке, в России и на Гаити, провел два года в Новом Орлеане, был врачом в Девятом районе.[167] По его словам, он едва обосновался в Литтл-Роке, где развернул небольшой мобильный госпиталь для ветеранов, возвращающихся с войн.
— Пино, — представляется он, протягивая руку.
— Джеслин.
— А вы? — спрашивает итальянец.
— А что я?
Обаяние в глазах.
— Расскажите теперь о себе.
Что она может рассказать? Что в ее роду сплошь одни проститутки, что ее бабушка покончила с собой в тюремной камере, что их с сестрой удочерили, что обе выросли в Поукипси, что их мама Глория расхаживала по дому, фальшиво выводя оперные арии? Что сама она отправилась учиться в Йельский университет, в то время как сестра записалась в армию? Что обучалась на театральном факультете, но диплома так и не получила? Что официально сменила имя с Джаззлин на Джеслин? И сделала это не от стыда, вовсе не от стыда? Глория говорила, стыда не существует: человек живет, пока отказывается стыдиться.
— Ну, я вроде бухгалтера, — говорит она.
— Вроде бухгалтера?
— Да, работаю в маленьком фонде. Мы помогаем людям с налогами. Никогда не думала, что буду этим заниматься, то есть ни о чем таком не мечтала, но работа мне нравится. Хорошая работа. Мы обходим трейлерные парки, гостиницы и так далее. После Риты, Катрины и всего прочего. Помогаем людям заполнять декларации, держать бумаги в порядке. Потому что у некоторых не осталось ничего, даже водительских прав.
— Великая страна.
Она смотрит на него испытующе, но в итоге решает, что он мог говорить без подвоха. Действительно мог иметь это в виду. Мог ведь, это вполне возможно, думается ей, почему бы и нет, даже по нынешним временам.
Чем дольше он говорит, тем больше ей кажется, что в речи итальянца проглядывают акценты нескольких континентов, будто он высадился в каждом из пунктов и приобрел там несколько звуков на память. Теперь он рассказывает, как, еще мальчишкой в Генуе, ходил на футбольные матчи и помогал бинтовать раненых после потасовок на стадионе.
— Бывали и серьезные травмы, — говорит он. — Особенно когда «Сампдория» играла с «Лацио».[168]
— Простите?
— Вы понятия не имеете, о чем я говорю, да?
— Верно, — смеется она.
Он вскрывает маленькую печать на еще одной бутылочке джина, половину выливает в ее стаканчик, половину в свой. Она чувствует, как в компании итальянца ей становится все уютнее.
— Ну, — говорит она, — когда-то давно я работала в «Макдоналдс».
— Вы это не серьезно.
— Отчасти. Хотела стать актрисой. В самом деле, почти то же самое. Надо только выучить роль: «Картошку фри будете заказывать?» Становишься на заранее сделанную отметку и вперед: «Картошку фри будете заказывать?»
— Кино?
— Театр.
Она тянется к стаканчику, поднимает его, подносит к губам. Впервые за много лет она открылась незнакомцу. Зубы словно вязнут в абрикосовой шкурке.
— Ваше здоровье.
— Salute, — отвечает он по-итальянски.
Самолет разворачивается над городом. В иллюминаторах грозовые облака и дождевые капли. Огни Нью-Йорка внизу, под облаками, — словно скрытое дождем, призрачное свечение, едва заметное.
— И? — говорит он, указывая за окно, на укутанный тьмой аэропорт Кеннеди.
— Что?
— Нью-Йорк. Вы надолго прилетели?
— О, просто хочу встретиться со старой подругой.
— Ага. Прям старой?
— Очень.
* * *
Когда она была девочкой и еще не чуралась людей, ей нравилось выходить на улочку в Поукипси, где стоял их маленький домик, и бегать вдоль тротуара — одна нога на мостовой, другая на пешеходной дорожке. Это требовало гимнастической ловкости: попробуйте-ка бежать быстро, все время вытягивая одну ногу и поджимая другую.
Клэр приезжала навестить их в красивой городской машине, с шофером. Как-то она долго сидела, с удовольствием наблюдая за беготней Джеслин, а потом сказала, что та бежит, словно выполняя серию антраша:[169] четный-нечетный, четный-нечетный, четный-нечетный.
Потом Клэр с Глорией усаживались на деревянных стульях в садике позади дома, у пластикового бассейна, в сени красного забора. Они казались такими разными, Клэр в однотонной юбке и Глория в ситцевом платье с цветами, словно тоже бежали по разным уровням тротуара, пускай и в одном теле; сразу две женщины в одной.
* * *
У ленты выдачи багажа Пино ждет рядом с ней. У него нет чемодана, так что забирать ему нечего. Нервничая, она потирает руки. Отчего же это легкое напряжение? Даже два джина с тоником не сумели его одолеть. Но итальянец тоже не чувствует себя в своей тарелке: она замечает, как тот переминается с ноги на ногу, как поправляет ремень дорожной сумки на плече. Ей нравится его смущение, оно спускает его на землю, наделяет плотью и кровью. Он уже предложил подбросить ее на Манхэттен, если это ее устроит. В любом случае берет такси. Едет в Виллидж, ему хочется послушать джаз.
Ее так и подмывало сказать, что он не похож на ценителя джаза, что в нем есть нечто от фолк-рока, ему, скорее, придется впору одна из песен Боба Дилана,[170] в кармане его куртки вполне мог заваляться листок с текстом Спрингстина,[171] а вот джаз как-то не совсем ему подходит. Так или иначе, ей нравились сложные характеры. Хотелось бы ей набраться смелости, повернуться к нему и сказать: «Обожаю людей, которые сбивают меня с толку».