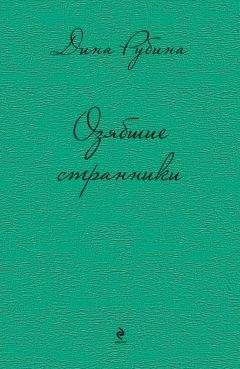Ознакомительная версия.
«Вчера, — продолжал диктор, — выступая на заседании Всемирного еврейского конгресса, Ицхак Шамир заметил…»
«Бедные… — подумала я, любовно посматривая на ворованный чайник, — как же они заседают там, без чая…»
Во дворе заиграла шарманочная мелодия «Сказок венского леса». Это приехала машина с мороженым. Я развернула газету на странице объявлений. Я всегда с жадной надеждой просматривала эти страницы, лелея безумную мечту о том, что где-то кому-то, возможно, нужен на небольшую ставку русскоязычный литератор.
«Ищу душевную серьезную с целью передачи дом в наследство. Семьдесят, в хорошем состоянии». Я вздохнула и отложила газету.
Позвонила Рита.
— Катька считает, — сказала она, — что мы должны подать на фирму в суд. И это справедливо.
— Ой, — я отхлебнула из чашки кофе. — Какой еще суд, я не умею… Меня даже нищие обижают.
— От тебя ничего и не требуется. Только присутствовать и кивать. Вместо подписи можешь поставить крестик. В общем, в двенадцать мы ждем тебя на углу Абарбанель, возле цветочного лотка.
— Ты веришь, что нам заплатят?
— Конечно! — уверенно сказала Рита. — Ровно за три дня до суда. Здешние мошенники не любят судиться… — Она вздохнула и вдруг проговорила совсем другим голосом: — Знаешь, иногда Он напоминает мне одного из тех сумасшедших коллекционеров, которые уже не могут остановиться в своей страсти, даже когда какой-нибудь экспонат коллекции и не очень нужен или совсем не нужен… — Она помолчала. — Ну скажи, скажи, — зачем Ему нужна была фирма «Тим’ак»?
— Ну… — я задумчиво повертела на колене пустую чашку «Ближневосточный курьер» и в который раз машинально прочла: «Тысячи их, абсурдных маленьких миров…»
Пока Рита с Катькой заполняли бланк заявления и препирались о чем-то с чиновницей, я шаталась по пустому коридору здания суда, потягивая через соломинку воду из бутылочки. Начиналась весна, время хамсинов, требовалось много пить, и мне уже не казались странными эти бутылочки с минеральной водой повсюду — в транспорте, в магазинах, на улицах. Пить, много пить — единственное спасение от здешнего суховея.
За столом в коридоре сидела грудастая истица. В мочке каждого уха у нее просверлено было по три дырки, и оттуда гроздьями свисали сокровища Али-бабы.
Она терпеливо пыталась заполнить бланк заявления, широко разведя мощные колени в цветных мужских бермудах. Сквозь распиравшуюся ширинку, как тесто из кастрюли, лез белопенный живот.
— Помоги мне написать! — приветливо улыбаясь, сказала она мне.
В иврите часто употребляют повелительное наклонение. Это не означает хамства.
— Извини, — сказала я, — я недостаточно хорошо умею писать…
— С ума сойти, — заметила она. — А по виду ты грамотная. Дай-ка хлебнуть воды из твоей бутылки, что-то горло пересохло.
Я вспомнила коронную Ритину фразу насчет «их» ментальности и подарила грудастой истице всю бутылку.
Суд нам назначили через два месяца.
Мы вышли на улицу. На остановке автобуса стоял старый араб в куфие — белоснежном платке, перетянутом вокруг головы толстым двойным шнуром. На нем была серая рубаха до пят, похожая на женское платье, пропыленные ботинки и на плечах — обыкновенный мужской пиджак.
— Идиотская страна, понимаешь, — сказала Катька, — страна бездарных чиновников. Должны были снять с нашего счета в банке сто семьдесят шкалей за Надькин садик, ошиблись, приписали лишний ноль, сняли тысячу семьсот… Теперь мы в глубоком минусе, жрать нечего, пока разберутся, то да се, можно с голоду подохнуть… Надо идти полы мыть… — Она добавила безучастно: — Я повешусь… Я просто повешусь…
Подошел автобус. Я протиснулась в самый конец, где на длинном сплошном сиденье маячило свободное место. Спотыкаясь о сложенные коляски, солдатские баулы, кошелки, я пробралась в конец и плюхнулась между молодой парочкой израильтян слева и пожилой четой совсем свежих (судя по разговору) и очумелых еще репатриантов справа.
Мальчик-солдат слева, видно, возвращался домой на субботнюю побывку. Он сидел в полной амуниции, с автоматом, вокруг сильной загорелой шеи — пропотевший шнурок с личным номером, в ногах длинный, плотно набитый баул. Девочка принарядилась. Встречала его, наверное, на автобусной станции, готовилась к встрече — прическа, отглаженная блузочка, отполированные ногти. А он устал. Он смертельно устал. Минуты три они тихо переговаривались, потом он задремал. Сидел, клевал носом.
— Глянь, какой лес! — сказала по-русски старуха справа. — Прямо среди города…
— Не забудь, все деревья здесь рукоприкладные, — отозвался муж.
Девочке надоело так сидеть. Ее влюбленность, с утра, по-видимому, подогреваемая ожиданием, не давала ей покоя. Она тихо погладила своего мальчика по руке. Он вздрогнул, инстинктивно сжал автомат и вскинул голову. Она улыбнулась ему успокаивающе, и он опять прикрыл глаза, задремал…
— Ничего, — проговорил старик справа. — Лет через десять здесь привьется наша культура…
Старуха кивала, перебирая крупные янтарные бусы на морщинистой шее.
Девочка слева опять осторожно потянулась рукой к своему мальчику. Вот дурища, подумала я, искоса наблюдая за ней, ну дай человеку поспать, он же вымотан, как пес… Она дотянулась ладошкой до его автомата и вороватым движением нежно погладила приклад.
— Война кончилась!! Точно — в Пурим!!
Меня разбудили вопли сына. Он прыгал по комнате — тощий, в трусах на слабой резинке, подпрыгивал, пытаясь рукой достать потолок.
По радио передавали подробности капитуляции Ирака. Я поднялась и поплелась в ванную.
— Хаг самеах!! — заорал сын мне вслед.
— Ура, — отозвался отец со своего дивана, — мы победили, и враг бежит, бежит, бежит.
— Противогазы порезать?! — радостно спросил балбес.
— Я тебе порежу… Сложи аккуратно в коробки и поставь на антресоли до следующей войны.
Зазвонил телефон. Это был Гедалия, староста группы с занятий рава Карела Маркса.
— Хаг самеах, — торопливо проговорил он. — Я обзваниваю всех, чтобы сообщить: сегодня вечером состоятся занятия. Приходите обязательно!.. Рав Маркс специально приурочил лекцию к празднику.
— А тема?
— Простите, я должен многих обзвонить… У меня нет ни минуты…
Я вышла на балкон. Внизу по травянистому косогору бегали соседские ребятишки, с утра уже наряженные в карнавальные костюмы, — две девочки лет десяти, обе в костюмах царицы Эстер, одна в ярко-красном, с позолотой, другая в белом — юбки длинные, пышные, на головах короны. Бегали с упоительным визгом, приподнимая пальчиками подолы юбок. За ними гнался мальчик лет восьми в костюме старика Мордехая — чалма на голове, расшитый цветами кафтан. Он безостановочно трещал пластиковой трещоткой, какими вечером в синагоге дети будут трещать во время чтения «Свитка Эстер» — при упоминании злодея Амана, потомка Амалека…
Еще одна яркая группка визжащей мелкоты, волоча по косогору противогазы, наперебой подражала вою сирены.
Впереди на горизонте штрихом обозначалась на фоне голубого утреннего неба башня университета на горе Скопус.
«Гар ха-Цофим, — мысленно проговорила я, обнаруживая, что мне уже привычно называть это место именно так, — Гар ха-Цофим…»
Центр города был уже запружен карнавальной толпой, шелушащейся серпантином, сверкающей фольгой, прыскающей струйками конфетти.
На углу улицы Короля Георга трое музыкантов — скрипка, флейта и аккордеон — залихватски бацали тоскливо-сладкую мелодию песни бессарабских евреев; вокруг плясали.
В небольшом кругу плясали грузный пожилой дядька в маске Саддама Хусейна с присобаченными к ней кудрявыми пейсами и очень толстая тетка в костюме божьей коровки. Автобусы еще ходили, то и дело застревая посреди толпы.
Продираясь сквозь кипящую водоворотами людскую кашу, я вдруг увидела, как в дверях еще открытой «Оптики» мелькнул люминесцентно-травяной свитер, над воротом которого колыхнулась зеленовато-призрачная физиономия. Почудилось, подумала я, наверное, это один из тех страшных человекообразных манекенов, от которых я шарахаюсь по сей день.
(Забегая вперед, скажу, что не привиделось. После крушения фирмы «Тим’ак» могущественный Гоша Апис выволок из-под обломков своих людей. Хаима, например, он пристроил в солидную «Оптику» на улице Яффо, где тот протирает бархоткой запылившиеся стекла очков. Тут возникает у меня банальная ассоциация с понятием «непыльная работка», но я удержусь. Реб Хаим, пожизненный пенсионер государства Израиль, любую работу работает тяжело. Так что пошлая ирония тут неуместна.)
Словом, я опять опоздала на занятия. Виновато улыбнувшись раву Карелу, проскользнула на свободный стул рядом с Гедалией и села.
Сегодня рав Карел был в особенном ударе. Он не садился даже, а возбужденно прохаживался от окна к своему креслу. Руки его, с большими смуглыми певучими кистями, ни минуты не находились в покое.
Ознакомительная версия.