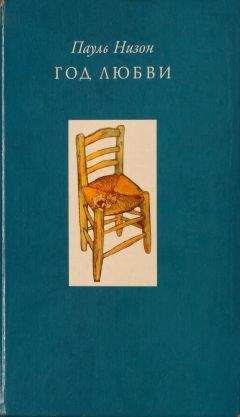Ты давно здесь живешь, спрашиваю я своего друга-художника.
Целую вечность. И не спрашивай почему. Ты знаешь это не хуже меня. Потому что только в таком городе, как этот, можно затеряться. Поэтому. Ты никогда не узнаешь его до конца, можешь бегать по нему с утра до ночи, но всего не обегаешь. Он — твоя погибель, он то, к чему ты стремишься.
И потому, что он весь, до самых глубин, освящен эросом, задумчиво добавляю я. Насыщен соблазнами, которые улыбаются и призывно кивают тебе и ждут тебя на каждом углу. Один только шаг — и ты в объятиях красотки, обнаженная грудь как на картине Делакруа, изображающей свободу! Я — цена жизни, говорит соблазнительница. Виляя бедрами, она подходит к тебе. Вместе с тобой, нет, впереди тебя пастушка спешит в кусты.
Эмигрантские разговоры. Vive la France.
Мы бредем в сумерках. Отблески уходящего дня смешиваются со светом фонарей и канделябров. Мы идем по сверкающему бальному залу, многократно отражаясь в зеркалах.
Мы, мой друг и я, выходцы из небольших городов, с точки зрения Парижа это провинция. Маленькие города навевают на меня такую тоску, что выть хочется. Ощущение убожества, жалкое существование, монотонно текущие дни, террор ограниченности и безысходности, накладывающий неизгладимую печать на всю твою жизнь. Тяжелая, как с похмелья, голова. Прозябание на задворках жизни. Где она, жизнь, где? Единственная хлебопекарня, выпекающая всегда одно и то же, единственный ресторан с автоматами по приготовлению коктейлей для местной молодежи. Уродство какое-то, кажется, будто к столу для представления spectaculum mundi[23] приставлены всего один-два стула, а на столе — испорченный бензонасос. Не понимаю, как местные жители мирятся с такой скудной пищей для глаз и для души. Когда смотришь на их вечно хмурые лица, кажется, будто вокзал ощущений закрылся навсегда, ни один поезд больше не уходит отсюда, ничего, что захватило бы тебя, прихватило с собой, ничего, что заставило бы тебя вскочить с места, ничего.
Мы идем мимо химчистки, здесь их называют прессингами, я люблю подобные заведения, хотя, кроме горячего воздуха и запаха химических реактивов, здесь тебя и впрямь ничем не порадуют. Видимо, это связано с тем, что тут властвуют женщины, снимая с тебя груз забот, вот грязные рубашки, мадам, а вот измятый костюм, пожалуйста, приведите в порядок. Первое время, когда у меня в Париже еще почти не было знакомых, я бегал в прачечные, как другие ходят в кино или в церковь. А еще я любил заглядывать в починочные мастерские — носил починить старые куртки. Но это был только предлог. На улице, где я жил, была пошивочная мастерская, в которой хозяйничали две сестры. От одной из них, жутко блондинистой тигрицы, веяло низостью, другая производила впечатление женщины честной и прямодушной. Две непохожие одна на другую сестры, блондинка отвечала за качество, за моду, другая была исполнительницей, держалась в тени. Я любил смотреть, как тигрица наклонялась, чтобы наколоть клиентке кайму, и жеманно и в то же время дразняще выставляла упругую задницу, задница будто говорила мне: здравствуйте. В таких заведениях остро пахло нитками, материей и утюгом, кроме того, веяло женским интимом, что неудивительно: там снимали платья, драпировались в материю, демонстрировали нижнее белье и кожу, и посетитель-мужчина оказывался в двусмысленном положении.
Таким же спертым, как в гареме, воздухом пахнуло на меня, когда еще юношей я пришел к мадам Эрне, которая жила на третьем этаже нашего высокомерного дома и вела нечто вроде мастерской, правда, на очень примитивном уровне, она шила на кухне, казалось, она не прекращает работу ни днем, ни ночью, чтобы прокормить своего мужа, музыканта, физическое и психическое состояние которого не позволяло зарабатывать на жизнь. Примерка проходила в большом салоне, который украшали рояль, черные лакированные столики, роскошная софа и искусственные цветы. У мадам Эрны пахло не только материей, модными журналами, парфюмерией и кокетством, но и высокопарными фантазиями, утраченными иллюзиями, декадансом. К этому добавлялось оптимистическое жужжание швейной машинки и неустрашимая, не знавшая усталости головка мадам Эрны с задорно, как у маленькой девочки, болтавшимся «конским хвостом».
Я рос в доме, где задавали тон женщины, мужчины лежали, сказавшись больными, или болели по-настоящему, так как их обделили любовью; некоторые просто-напросто исчезали бесследно.
Все женщины в доме носили одинаковые платья, маскировавшие возраст и пол, которые можно было принять за вдовий наряд. Они строго и презрительно отзывались о немногих предприимчивых мужчинах, считая их прожигателями жизни; однажды я услышал загадочную фразу: один из них прокутил с женщинами все свои деньги, все, что имел.
Недавно я снова встретил Акима, пошло немало лет с тех пор, как он служил зазывалой в одном заведении на площади Пигаль, там показывали стриптиз, и его обязанностью было не просто зазывать богатых на вид, жаждущих развлечений клиентов, но буквально выхватывать из толпы проходящих мимо любителей зрелищ и затаскивать их в свой вертеп. Он немного говорил на ломаном английском, изъяснялся по-немецки и по-итальянски, это у него называлось знанием языков и позволяло строить из себя полиглота. Мы познакомились однажды ночью и после нескольких рюмок сошлись. Во всяком случае, теперь у меня был собутыльник на то время, когда я слонялся по площади Пигаль, находившейся недалеко от моей тогдашней квартиры.
Теперь Аким стал респектабельным человеком. Жестянщик, мелкий предприниматель, он ездил на R4 и был, он это подчеркивал особо, женат. Он много говорил об уважении к собственной жене, почтенной дочери из всеми уважаемой арабской семьи, сейчас она работает только половину дня, но никуда не ходит, даже телевизор не решается смотреть, не говоря уже о видеофильмах, похоже, она занята только домашним хозяйством и находит удовлетворение в общении с пылесосом, можно предположить, что он заменяет ей телевизор. Во всяком случае, она умела извлекать удовольствие из пылесоса, это уж точно. А супружеское уважение выражалось, помимо прочего, еще и в том, что они никогда не видели друг друга обнаженными. Они в исподнем ныряли под одеяло, чтобы в темноте отдаться друг другу.
Аким упоминал об этих подробностях с явной гордостью, словно благодаря именно этому он поднялся по социальной лестнице. Четырнадцати лет от роду он уехал из Константины в Алжир, его вышвырнули из родного гнезда подростком, выкарабкивайся или сдохни, он прибыл во Францию, имея в кармане только проездной билет. Тогда ему приходилось добывать уважение к себе с помощью ножа; теперь он мелкий предприниматель, женат, клиентов он находит в бистро.
Нынешнее семейное положение Акима одобрила бы моя мама: респектабельность, уважение к себе и непременное в этом случае воздержание играли важную роль в системе ее ценностей и в ее словаре.
А сейчас мне припомнился подвал, точнее, целое подвальное царство, в свое время там было бомбоубежище, укрепленное толстыми балками мрачное помещение с множеством отопительных и вентиляционных труб; кроме индивидуальных закутков, отгороженных деревянными решетками, там была и общая домовая прачечная: в день стирки в адской парной трудились у ведер, бадей и стиральных досок потные, красные от жара истопницы, служанки и матери. Влажное материнское жерло.
В темноту подвалов вела крутая винтовая лестница, но другая лестница, на другом конце просторного подземелья, вела наверх, на усыпанный галькой двор, где сохло белье, и в примыкавшие к двору сады. Вела к спасительному дневному свету.
А иногда и в ночной мрак.
Помню, как, будучи гимназистом, я вступал под пенящуюся майскую листву, словно под священный полог ночи, весь во власти очарования, и, предвосхищая соблазны, нырял в благоухающую аллею, которая вела к больнице. Опьяненный ароматами и собственными фантазиями, я входил нетвердой походкой в фосфоресцирующее чрево листвы, в котором бегали туда-сюда медицинские сестры в белых халатах. Однажды, замедлив шаги и оглянувшись, я заметил, как одна из них, встретившаяся на моем пути, остановилась, и застыла, повернув в мою сторону светлое пятно тела. Я подошел к ней и, не говоря ни слова, даже не думая, что это могло быть простым недоразумением, обнял ее, мы поцеловались, и я почувствовал в своем рту ее горячий язык, это был первый такой поцелуй в моей жизни, я был не готов к такому, повороту. А она? Убежала, оставив меня в замешательстве и недоумении.
Я размышлял о случившемся дома, в ожидании дождя, который всегда будоражил мой внутренние токи. Я настораживался, когда меня настигало дыхание дождя. Сначала менялось освещение, мелькали темные пятна, движущиеся тени, будто их гнало ветром; и вдруг тишина, внезапное низвержение тишины; а вслед за этим громкий вздох дождя, приближающееся шуршание капель, своим шумом они долго заглушают все вокруг, кряхтят двери, глухо вздыхают деревья, комната затягивается темным покрывалом, оконное стекло наискось прочерчивают дождинки.