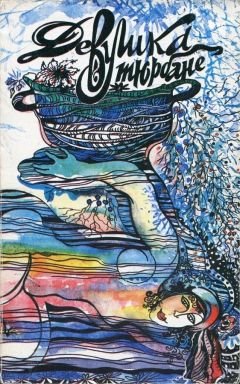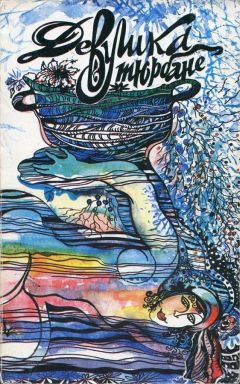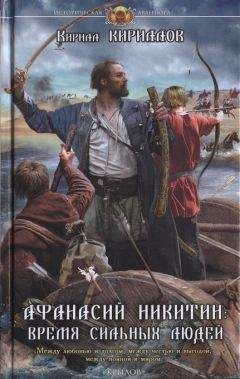— Мистер Ши...майл? — с трудом выговорил полицейский.
— Шлемиль, — поправил его мой спутник. — Петер Шлемиль.
Полицейский вернул нам паспорта, выключил свет и сухо распрощался. Поезд продолжил свой бег в индийской ночи, голубой свет ночника навевал сновидения; мы долго молчали; первым заговорил я:
— У вас не может быть такой фамилии, есть только один Петер Шлемиль, и его выдумал Шамиссо, и вы это прекрасно знаете. Таким манером можно провести только индийскую полицию.
Попутчик не ответил. Потом вдруг спросил меня:
— Вы любите Томаса Манна?
— Не всё.
— А что именно?
— Рассказы, некоторые повести, «Тонио Крёгер», «Смерть в Венеции».
— А не случалось ли вам читать предисловие к «Петеру Шлемилю», блестящая вещь, — заметил он.
И снова молчание. Я даже подумал, уж не заснул ли он, но это было бы невероятно: он просто ждал, когда я заговорю, и я пошел ему навстречу:
— Зачем вы едете в Мадрас?
Он ответил не сразу. Тихонько откашлялся и произнес еле слышно:
— Еду взглянуть на одну статую.
— Всего одну? Не слишком ли долгий путь для этого?
Он несколько раз высморкался, прежде чем отозваться:
— Знаете, я вам расскажу небольшую историю, у меня вдруг возникло желание вам ее поведать.
Он говорил очень тихо, а из-за шторки мне было почти совсем не слышно.
— Много лет назад в Германии я познакомился с одним человеком. Он был врач, я попал к нему на осмотр. Он сидел за письменным столом, а я стоял перед ним нагишом. За мной тянулась длинная очередь таких же голых мужчин, и всех он осматривал. Нас доставили туда и объявили, что мы должны послужить прогрессу немецкой науки. Рядом с врачом стояли два вооруженных охранника и фельдшер, заполнявший карточки. Доктор задавал нам очень точные, конкретные вопросы относительно наших мужских функций, а фельдшер брал у нас соответствующие анализы и результаты заносил в карточки. Очередь продвигалась быстро, потому что врач торопился. После осмотра я, вместо того чтобы сразу проследовать в помещение, куда уводили всех, застыл как завороженный у стола, глядя на статуэтку, изображающую какое-то восточное божество, какого мне раньше видеть не приходилось. Это была пляшущая фигурка, руки и ноги у нее гармонично расходились в разные стороны и были заключены в круг. В этом круге оставались совсем небольшие пробелы, заполнить их, видимо, предоставлялось воображению зрителя. Доктор перехватил мой восхищенный взгляд, и его тонкие губы искривились в язвительной усмешке. Эта статуя символизирует жизненный цикл, объяснил он, и для достижения высшего совершенства — красоты — надо сделать так, чтобы все в жизни, даже ее отбросы, вписывалось в этот круг. И в соответствии с философией, породившей эту статую, я вам желаю в новом биологическом цикле, то есть в другой жизни, оказаться на более высокой ступеньке, чем та, что досталась вам в этой.
Мой спутник умолк, но даже сквозь шум поезда я отчетливо слышал его ровное, глубокое дыхание.
— Пожалуйста, продолжайте, — попросил я.
— Да, собственно говоря, больше и рассказывать нечего. Статуя изображает пляшущего Шиву, но тогда я этого не знал. Как видите, я пока еще не вступил в круг жизненного обновления, да и вообще у меня совсем иная трактовка данного образа. Я думаю о нем постоянно, каждый день, все эти годы только о нем и думаю.
— И сколько ж лет прошло с тех пор?
— Сорок.
— Сорок лет думать об одном и том же — уму непостижимо!
— Думаю, это способен постичь лишь тот, с кем проделали такую гнусность.
— И какова же ваша трактовка?
— Мне кажется, статуя изображает не цикл, а просто танец жизни.
— А в чем разница?
— О, разница огромная, — прошептал господин Шлемиль. — Жизнь есть круг, который замыкается в один прекрасный день, а в какой именно — нам неизвестно. — Он снова высморкался и добавил: — Извините, я что-то устал, с вашего позволения попробую заснуть.
* * *
Проснулся я, когда поезд был уже в окрестностях Мадраса. Мой попутчик, свежевыбритый, отдохнувший, одетый в свой щегольской синий костюм, сложив полку, сидел за столиком у окна. Улыбаясь, он указал мне на поднос с завтраком.
— Я ждал, когда вы проснетесь, чтобы вместе выпить чаю. Вы так сладко спали, не хотелось вас беспокоить.
Я зашел за перегородку, где был умывальник, быстро привел себя в порядок, собрал вещи и сел завтракать. Мы уже въезжали в густонаселенные пригороды Мадраса.
— Видите, мы прибываем точно по графику, сейчас без четверти семь. — Попутчик аккуратно свернул свою салфетку. — Знаете, мне бы хотелось, чтоб вы тоже взглянули на эту статую, она в Мадрасском музее. Было бы любопытно узнать, что вы о ней думаете. — Он встал, взял свой «дипломат» и попрощался с неизменной любезностью: — Я благодарен тому путеводителю за то, что он помог мне выбрать именно этот вид транспорта. Действительно в индийских поездах нас порой ожидают самые невероятные встречи. Поверьте, я очень приятно провел время в вашем обществе.
— Я также. И потому не меньше вашего благодарен путеводителю, — отозвался я.
Мы уже подъезжали к зданию вокзала, на перроне было полно народа. Поезд затормозил и плавно остановился. Я пропустил своего попутчика, он вышел первым и махнул мне рукой на прощанье. Он был уже довольно далеко, когда я вдруг крикнул ему вслед:
— А как я сообщу вам свое мнение, ведь у меня нет вашего адреса?
Он обернулся с уже знакомым мне выражением растерянности на лице, секунду поразмыслил.
— Оставьте мне записку в «Америкэн экспресс», я туда зайду.
И мы потеряли друг друга в толпе.
* * *
В Мадрасе я пробыл всего три дня. Очень напряженных, вконец меня измотавших. Мадрас — бесконечный город низких домов и огромных пустырей, улицы его кишат велосипедами, дребезжащими автобусами и животными; чтобы пересечь его, нужно потратить уйму времени. Когда с делами было покончено, у меня остался в запасе только один свободный день, поэтому от посещения музея пришлось отказаться. Я отдал предпочтение наскальным рельефам Канчипурама, несмотря на их удаленность от города. Мой путеводитель и здесь оказался бесценным советчиком.
На четвертый день утром я был на стоянке рейсовых автобусов, отправляющихся в Керала и в Гоа. Жара стояла невыносимая, до моего автобуса оставался целый час, а единственным спасением от зноя был обширный навес автобусной станции. Чтобы скоротать время, я купил газету, выходящую в Мадрасе на английском языке. Газетенка всего на четырех страницах, нечто вроде церковно-приходских изданий, и состояла в основном из объявлений, краткого пересказа популярных фильмов и городской хроники. На первой полосе набранный крупным шрифтом заголовок сообщал о совершенном накануне убийстве. Жертвой оказался гражданин Аргентины, проживавший в Мадрасе с 1958 года, по описанию сдержанный, ничем не примечательный человек семидесяти лет; в своем маленьком особняке респектабельного района Адьяр он вел жизнь замкнутую, практически ни с кем не общался. Жена его умерла естественной смертью три года назад. Детей у них не было.
Он был убит выстрелом из пистолета прямо в сердце. Преступление казалось необъяснимым, во всяком случае, ограбление как мотив не годилось, в доме не обнаружили никаких следов взлома. Жилище погибшего, судя по газетному отчету, выглядело скромно и непритязательно: перед домом маленький садик, из ценностей лишь несколько предметов старины, свидетельствующих о том, что убитый принадлежал к знатокам искусства дравидов; в заметке упоминалось о некоторых услугах, оказанных им местному музею в составлении каталогов, рядом была помещена фотография убитого — лысого старика со светлыми глазами и тонкой линией рта. Об убийстве сообщалось самым нейтральным и бесстрастным тоном. Единственной любопытной деталью было фото статуэтки, помещенное рядом с портретом убитого. Такое сочетание, впрочем, было вполне естественным, ведь погибший был специалист по древнему искусству, а пляска Шивы — самый известный экспонат Мадрасского музея, своего рода символ. Но для меня это естественное сочетание имело совершенно другой смысл. До отправления автобуса оставалось еще двадцать минут, я нашел телефон и набрал номер «Америкэн экспресс», у телефонистки был очень приятный молодой голос.
— Я хотел бы оставить сообщение для господина Шлемиля.
— Одну минуту, я выясню... Вы слушаете? У нас нет абонента с такой фамилией, поэтому мы не сможем доставить корреспонденцию этому господину, но, если хотите, оставьте свое сообщение, как только он появится, ему тут же передадут... Алло, алло, вы слушаете? — говорила телефонистка, потому что я молчал.
— Простите, мисс, дайте мне подумать.
Что я мог ему сообщить? Мне вдруг показалась нелепой сама мысль об этом. Передать, что я все понял? А что? Что для кого-то круг замкнулся?