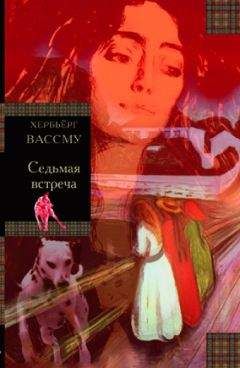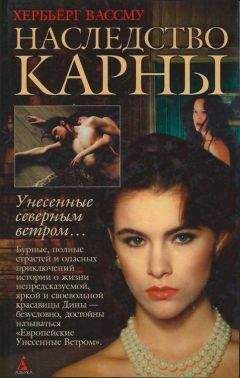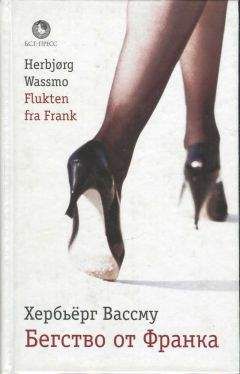— Да, — сказал Руфь, не зная, что еще к этому прибавить. Ей вдруг захотелось рассказать Турид об аварии, в которую попал Тур. Но это только подтвердило бы, что она плохая мать, и она промолчала.
— Я тут встретила одну нашу сокурсницу, Берит. Она хотела связаться с тобой, написала тебе письмо. Но ты ей не ответила, и она решила, что ты загордилась. Не беспокойся, я ей прочистила мозги. Сказала, что мне ты тоже не пишешь. Должна же она понять, что у тебя есть другие дела. У тебя так много важных друзей.
— Берит?
— Ну да, помнишь, она всегда очень туго перетягивала талию. На той вечеринке она хотела подцепить Турстейна. Помнишь? И Горма тоже. Мы, девчонки, не очень любили ее. Помнишь? Горм тогда отвез тебя к автобусу, если не ошибаюсь. Ты поддерживаешь отношения с кем-нибудь из нашего училища?
— Нет, не получается. Я не люблю писать письма, — сказала Руфь, пытаясь найти хоть какое-нибудь извинение.
— Ты еще хуже Горма! А вот я, к примеру, не могу жить без старых друзей, — вздохнула Турид.
Руфь не ответила, но, к своему удивлению, спросила:
— Ты часто с ним видишься? С Гормом, я хотела сказать. Ты часто бываешь на Севере?
— Нет, он… Он мне совсем чужой. Я не понимала его тогда, не понимаю и теперь. Но он звонит, когда бывает в Осло и хочет повидать Сири. Он очень сдержанный. Еще более сдержанный, чем был в молодости. Никогда не поймешь, о чем он думает. Что-то в нем есть такое… Ему как будто никто не нужен. Ты меня понимаешь?
— Я его не знаю, — пробормотала Руфь.
— Ты знала его, когда мы учились в педагогическом училище.
— Не знала. Видела пару раз.
— Он немного надменный, но добрый. Между прочим, он покупает картины. Произведения искусства. Правда-правда, мне Сири сказала. Знаешь, я когда-то давно видела в газете одну из твоих картин. Она меня почти испугала. Во всяком случае, никакой радости она мне не доставила.
— Я пишу не для того, чтобы кого-нибудь радовать, — натянуто заметила Руфь.
— А зачем же тогда? — Турид была искренне удивлена.
— Чтобы напомнить самой себе о чем-то, чего я еще не поняла, но боюсь забыть. И еще потому, что должна. — Руфь улыбнулась.
— Ты шутишь, — засмеялась Турид.
— Нисколько. — Руфь посмотрела на часы.
В эту минуту объявили посадку на их самолет. Обе встали.
— Ты бываешь в Осло? — спросила Турид по пути на посадку.
— Случается.
— Позвони мне, сходим куда-нибудь вечером. Надо обменяться телефонными номерами. Какой у тебя номер в Берлине? — весело спросила Турид.
— В Берлине? Я собираюсь переезжать, и сейчас у меня еще нет телефона. — Сказав это, Руфь наконец-то обрела покой. В Берлин она не вернется.
Оглушенные ревом самолета, Турид и Руфь поднимались в небеса.
Но они сидели поодаль, свободных мест рядом не оказалось.
Сосед Руфи шелестел газетой. Самолет поднялся на заданную высоту, и пилот по-датски приветствовал пассажиров на борту самолета. Руфь тоже достала газету, но вспомнила, что ее очки лежат в кармане куртки на полке для шляп, поэтому она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.
Пока она искала кнопку, чтобы опустить спинку кресла, ее сосед положил руку на подлокотник. Короткие, неровные ногти. Сильный большой палец изящной формы. Цвет кожи говорил о том, что этот человек работает в помещении. Возле пульса проступали синие сосуды и набухшие вены.
Когда пилот переменил высоту, у нее засосало под ложечкой, она закрыла глаза и встретила открытый взгляд Горма.
Газета рядом с ней энергично зашелестела. Открыв глаза, Руфь увидала кусочек своего портрета. Сосед тоже увидел портрет. Она снова закрыла глаза и сделала вид, будто не понимает, что он узнал ее.
Лицо Горма стало более отчетливым. Он протянул к ней руку. Она почувствовала его пульс на своем.
— Я всегда мечтал, что когда-нибудь мы полетим вместе, — сказал он, и смущенная улыбка смягчила его резкие черты. — Я вбил себе в голову, что мы должны встретиться вне всех этих запретов. Что мы просто полетим.
Сильный вихрь встряхнул самолет и бросил его вниз. Пилоту это не понравилось, и он снова поднял самолет.
— Кто-то все время решает за нас, а мы этого даже не знаем. Или делаем вид, что не замечаем. И разрешаем им распоряжаться нами. И очень редко нам удается сбежать, — прошептала она ему.
Они снова провалились сквозь облака. Руфь схватилась за подлокотники. С правой стороны она ощутила мягкую шерстяную ткань рукава.
— Ты летишь на выставку своих картин? — услыхала она.
— Нет.
— Я читал, что ты достигла успеха и твои картины хорошо продаются? Но, вообще-то, не все одинаково милостивы к тебе, — засмеялись рядом с ней.
— Главным образом, я езжу, чтобы работать, — едва слышно прошептала она Горму.
— Я знаю, — сказал он.
— Много лет назад один журналист спросил меня, почему я написала далматинца.
— И что ты ему ответила?
— Что я получила в наследство шкуру далматинца.
— Это правда?
— Отчасти. Но самое главное, я хотела написать твои глаза.
— Надеюсь, журналисту ты этого не сказала?
— Нет.
Он глянул на нее с быстрой улыбкой.
Она прижалась губами к его уху и прошептала:
— Ты поедешь со мной в Париж?
— Да! И где мы там будем жить?
— Номер 46. L’Hotel, Rue des Beaux Arts. Тебе придется опуститься на колени, чтобы отпереть дверь. Но ты к этому привыкнешь. Там висит старая эротическая картина.
* * *
Телефон зазвонил прежде, чем она успела открыть дверь дома на Инкогнитогата. АГ вернулся из Нью-Йорка и узнал, что она покинула Берлин. Она поняла, что ему уже известно о том, что она побывала в хранилище и забрала свои картины, но он об этом не упомянул.
— Как прошел вернисаж? — осторожно спросила она.
— Великолепно. Добрая половина картин была продана еще до моего отъезда. Дорогая, я приеду в Осло, чтобы присутствовать на твоем вернисаже.
— Не стоит. В этом нет необходимости. — Сердце бешено колотилось.
Наступило молчание.
— Ты меня бросила, или я ошибаюсь? — Голос был удивленный, но спокойный.
— Я просто уехала в Осло. Хочу работать здесь.
— Но почему, любимая?
— Мне хочется быть ближе к Туру.
— Об этом мы не договаривались. — Теперь он говорил свысока, словно объяснял что-то ребенку.
«Наверное, он всегда говорил со мной как с ребенком, только я этого не замечала», — подумала она.
— Мне не нравится, что ты за меня принимаешь решения, от которых зависит моя жизнь, — сказала она.
— Ты не можешь так обойтись со мной. Я люблю тебя, Руфь!
— Ты любишь не меня, а картины, которые можешь продать.
— Послушай, телефон не подходит для такого разговора. Я приеду в Осло. Если не хочешь, чтобы я присутствовал на открытии, я приду вечером. И докажу тебе, что для тебя лучше. Будь уверена. Я тебе нужен, Руфь.
— Ты сюда не приедешь!
— У тебя есть любовник? — спросил он глубоким, низким голосом, каким говорил всегда, добиваясь нужных ему сведений.
— Тебя это не касается, — отрезала она.
— Значит, любовник, — засмеялся он.
Она задохнулась, в его смехе ей почудилось что-то жуткое.
— Это конец. Я не нуждаюсь в твоей помощи.
— Не нуждаешься? Сейчас, перед выставкой, твое имя у всех на устах, ты не должна делать глупостей. Скандальная пресса уже проявляла интерес к твоей особе. Тебе это не понравилось. Помнишь, дорогая? В моих архивах есть фотографии не только с твоих картин, на них изображена ты сама.
Руфь быстро попыталась представить себе, чем он ей угрожает. Что там у него есть? Ее фотографии в разных позах? Например, она обнаженная перед окном в отеле в Риме? Счастливая и пьяная в постели с АГ после своей первой выставки в Нью-Йорке? Вместе с АГ. Автоматическая фотосъемка?
Когда он громко и сердито заговорил по-французски, она повесила трубку.
Некоторое время она сидела перед телефоном, не в силах собраться с мыслями. Потом подумала, что он, конечно, осуществит свою угрозу и приедет. Не сообразив, сколько времени надо, чтобы приехать из Берлина на Инкогнитогата даже такому человеку как АГ, она вскочила, чтобы убедиться, что замок и цепочка на двери надежно заперты. Старая хозяйка, живущая на первом этаже, была в отъезде, так что АГ не мог хитростью заставить ее открыть ему дверь.
В ту же минуту зазвонил домофон. Руфь спряталась в уборную в глубине квартиры и убеждала себя, что это не может быть он. И все-таки сидела там, пока звонок не замолчал.
Разве я не могу быть в уборной? — думала она. Но страх уже охватил стены, мебель, окна. Руфь взяла перину и подушку с собой в мастерскую, где ее нельзя было увидеть с улицы. Только глубокой ночью она нашла в себе силы спуститься в кухню, чтобы чего-нибудь поесть.
Пока она грызла старый хрустящий хлебец, запивая его красным вином, она вдруг обратила внимание на итальянскую керамическую плитку на стене над кухонным столом. Она купила ее в Риме, когда в первый раз была там с АГ. Как она была тогда счастлива! Она любовалась АГ и сравнивала его с греческим богом. Наверное, еще тогда догадалась, что он млеет от таких слов.