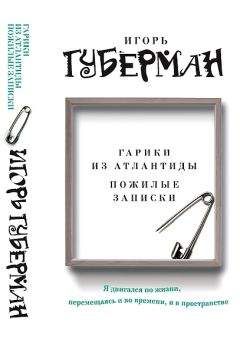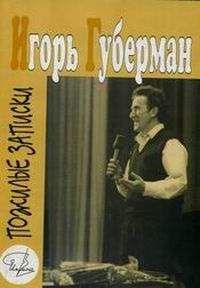— Вставайте, пьяницы, пора на экскурсию. Голгофа работает до двенадцати.
Мы почти весь день бродили по городу и — третьего раза не миновать — у меня обильно потекло из глаз возле Стены Плача. Так началась вторая жизнь, подаренная нам.
И было очень тяжело, о чем, естественно, я никогда и никому не говорил.
А было тяжко так по-разному, что постепенно начал я приглядываться к этому и кое-что теперь могу сказать подробней. Но только это вовсе не совет, ибо периоды душевного упадка — как любовь, такое каждый может пережить только по-своему.
Когда нет сил ни двигаться, ни говорить, ни думать, ни вообще жить, и не отчаяние ощущаешь, а пустоту и безразличие ко всему на свете, включая самого себя, — это принято называть депрессией. Глупым, пустым, казенным словом. Депрессия, компрессия, концессия. А на самом деле это чистая и вульгарная импотенция, но слово это психологи и психиатры употреблять побаиваются, потому что они — мужчины (в основном), и для них оно имеет узкоспециальное значение. Но бессилие ослабшего духа так естественно лишает нас энергии и воли, что сникает, увядая, весь наш организм. Нет сил и нету силы воли выдернуть себя из пакостного состояния — вот импотенция во всей полноте этого звучного латинского слова.
Столь по разным возникает она причинам, что их не стоит обсуждать, и я людей весьма благополучных видел в этом состоянии. И лично я с ней не борюсь, а только помогаю ей развиться, как давно мне посоветовал один приятель. Приведу его буквальные слова:
— Всего надежнее расслабиться и ей помочь. Надо себе вслух и молча несколько раз сказать, что ты дерьмо собачье, что и раньше был дерьмо собачье, и что несомненно будешь впредь дерьмо собачье. И не в счет ни прошлые удачи — были по случайности они, ни чувство силы и способности — его навеял бес, ни чьи-то похвалы — уж их-то точно бес навеял. Все пропало, сгинуло и кануло, рассеялось, исчезло, испарилось, рухнуло и рассосалось. И теперь так будет всегда. Или еще хуже и глуше. Беспросветно, безнадежно и безвыходно.
На этом месте самая пора принять первую рюмку.
А дальше следует старательно и неуклонно вспомнить все свои просчеты, слабости, провалы, неудачи и промахи, все случайные и нарочитые пакости далеким и близким, факты хамства, неблагодарности и душевной черствости, все обманы чужого доверия, закрывание глаз на мерзости, подлое свое равнодушие, трусость, неполноценность и лживость.
Все это время следует неторопливо принимать по рюмке и немного закусывать.
Но чтобы ни на миг не становилось легче от нечаянно всплывающих в памяти светлых минут любовного или иного успеха, надо немедленно и холодно сказать себе, что это было в прошлом, если было вообще, и ни на что подобное уже надеяться нечего. Жизнь будет тлеть на уровне, который есть сейчас, во всем убожестве теперешнего общего бессилия. Поскольку импотенты — лишь свидетели, а не участники жизни.
И тут можно ложиться спать. Чтоб утром с удивлением подумать: Господи, ну до чего же я себя вчера довел, сколько херни наговорил и перечувствовал, а вот ведь жив остался, хочется поесть и покурить, а значит — стоит жить и стоит попытаться продолжать. И сучья эта слабость, на тебя махнув рукой, уходит к тем, кто ей сопротивляется.
— Даже странно, — добавлял обычно приятель, — что такой прекрасный рецепт совершенно мне не помогает. Как она сама пришла неожиданно, так сама и уходит.
А я сочувственно киваю всякий раз и благодарно вспоминаю: мне такая встряска помогала. Просто потому, скорей всего, что вообще это целебно — говорить себе время от времени, что ты сам о себе думаешь на самом деле. И ни на кого не перекладывая свои беды — на судьбу ли, Бога неповинного, двадцатый век, лихие качества еврейского народа или покойную советскую власть.
Погружаясь постепенно в эту жизнь, я мельком отмечал черты, которыми уже никак не буду обладать. Так никогда не обрету я чувство слитности истории библейской с моим собственным существованием на свете, и течение моего личного земного времени не будет непосредственно продолжать поток библейских событий. Я, может быть, невнятно говорю? Но тут простое дело. С раннего детства вовлеченный в мифы нашей древности израильтянин, ежегодно празднуя то выход из египетского рабства, то чудесное спасение всего народа от интриг Амана, это время ощущает как вчерашнее. Приятель мой услышал как-то краткий монолог. Два грузчика возле большого магазина, привезя товар, курили в ожидании кого-то у машины. И один меланхолически и запросто сказал другому:
— А дурак все-таки царь Давид, что построил город на этой стороне горы. Построил бы вон там, и мы с тобой сейчас в тени б сидели.
Такого ощущения прямой причастности — уже не будет у меня, как ни старайся. Ибо все в судьбе должно и возникать, и совершаться, и самими нами делаться — лишь вовремя. А чтобы невзначай не соскользнуть в высокую философичность (куда поволокло меня журчание текста), изложу я лучше поучительный и назидательный случай, из которого всем сразу станет ясно, что и взаправду своевременность необходима.
Когда сюда давным-давно приехал мой один знакомый, услышал он, что некая американская контора ради вовлечения каждого нового еврея в вид, пристойный для еврея, платит взрослым людям триста долларов за проделанное ими обрезание. Сперва пошел он (чуть не побежал) по адресу конторы этой, но тут явилась ему в голову сугубо деловая мысль. О том, что вмиг растратит он шальные эти деньги, а имеется возможность, чтоб надежно и подольше они были у него. Под их доступное наличие, подумал он, можно всегда одалживать спокойно, ибо повсюду неотлучно с ним — очевидный и неопровержимый документ, что он на эти триста долларов имеет неотъемлемое право.
И самого себя перехитрил и обездолил. Покуда он таскал в штанах этот заветный документ, американская контора исчерпала свои фонды, составила отчет о всех вернувшихся за триста долларов в лоно своего народа и закрылась. Промедление подобно смерти, говорил какой-то древний полководец. И к описанной потере эта мудрость явно приложима.
А тема возвращения в евреи мне напомнила, что тех ушедших в венском аэропорту я застал в Италии всего лишь год спустя. А может быть, не их, но очень многих, изменивших ради вожделенной Америки свой первоначальный маршрут. Мне повезло: меня туда послали им читать мои стишки. Я думаю, что замысел пославших был довольно незатейлив — я являлся неким воплощенным сообщением, благой, если угодно, вестью. Приблизительно такой: вы зря все рветесь от Израиля подальше, хотя в Израиле не хуже, чем везде, если даже столь пустые люди, как этот, могут у нас выжить.
И я читал стишки, чем выполнял свое предназначение.
Безумную, немыслимую красоту природы итальянской я описывать не буду, ибо из меня Тургенев, как из биндюжника — посол. Но тысячи людей, скопившихся тогда в окрестностях Рима, эту красоту не видели в упор. Измученные годовым ожиданием, они лишь вероятность попадания в Америку (Австралию, Канаду, к черту на рога, но лишь бы не в Израиль) были в состоянии с утра до вечера жарко обсуждать. Слова, которые они спокойно и ежеминутно употребляли, повергли меня в холодный ужас (после привык) — это были слова, живо напоминавшие о Дахау и Освенциме: селекция, перекличка, транспорт. И неважно, что речь шла о другом, — слова ведь сами по себе способны будоражить нашу чувственную память.
Тут и столкнулся я вплотную с темой возвращения в евреи. Судьба американской визы полностью зависела от консула: ему при встрече следовало рассказать такое, чтобы кровь заледенела в его жилах и он понял — перед ним поистине страдальцы. И преследовали их не просто, а за принадлежность к этой бедной и гонимой нации. Ибо гуманизм гуманизмом, но закон — законом (имеются в виду законы мирового рынка): принимались для оплаты лишь страдания, имевшие товарный вид.
И те страдания, которые хлебом не корми, но дай нам рассказать о них, — вмиг обесценились, как лопнувший воздушный шарик. Вспыхнула в окрестностях Рима такая эпидемия сочинительства, что только Гоголь ее смог бы описать — со свойственным ему сочувствием к страданиям еврейского народа.
Чуть поздновато я приехал, главная легенда уже минула, исторгнув чуть не слезы (а по слухам — обморок) у непривычного к нашим сагам и былинам американского консула. Бурно множились ее подобия, за сочинение которых уже деньги брали разные лихие люди с богатым воображением.
Та первая была чиста, прекрасна и проста, как правда. К одной женщине в большом республиканском городе принес почтальон вызов, и она его на радостях пустила в дом. Увидев ее роскошную обстановку, почтальон якобы злобно заявил, что вон как вы, евреи, тут живете, а еще хотите уезжать, и в порыве вспыхнувшего гнева быстро-быстро изнасиловал хозяйку. А когда она после его ухода позвонила в милицию, пришел районный участковый. Был участковый в чине капитана (с детства знаю, как подробности-детали способствуют проникновенности рассказа), он составил протокол, после чего и сам поступил подобно почтальону.