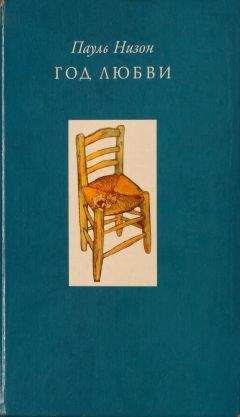Вы поживаете; Вы наверняка пишете о себе легче и свободнее; по крайней мере, не так скованно, как
Ваш старый Джо».
Иногда Джо называл себя волом. Этим он хотел подчеркнуть отличие от быка. В его жизни не было женщин, за исключением матери, которая, помнится, в корне придушила единственное увлечение Джо, его целомудренную дружбу с одной санитаркой, и больше не допускала ничего подобного.
Я знавал его мать, она жила вместе с сыном в секционном доме в Уансворте, недалеко от пользовавшейся дурной славой тюрьмы. Несколько лет назад, когда я приезжал к ним, ей было восемьдесят. Сейчас ее уже нет в живых. Это была тучная, тщеславная и очень сильно накрашенная старая дама, казалось, краски просто размазаны по ее лицу — красная на сморщенных щеках, фиолетовая на проступавших под глазами мешках. Добавьте к этому жгучие темные глаза и свободно ниспадающее платье, сквозь которое на уровне расплывшегося живота вырисовывались груди, создавая впечатление старческой беременности, и вы получите ее портрет. Она похвалялась своими левыми взглядами (с юных лет состояла членом марксистского кружка) и делала это, поглядывая на Джо, который был консерватором. После короткого приветствия и обычного обмена любезностями она тут же перевела разговор на себя, на свою персону, что лишь подчеркивало тщеславную суетность ее характера. По приказанию матери Джо включал телевизор, когда наступало время последних известий, он делал это с равнодушным видом. Но если пятидесятилетний в ту пору преподаватель позволял себе высказывание по внешнеполитическим вопросам, она резко обрывала своего толстого мальчика, каким он для нее оставался, в глазах ее сверкала злоба.
Меня поразила роскошь салона, в котором мы беседовали. О большой культуре и высокой образованности говорили полки вдоль стен, уставленные книгами по искусству, фолиантами в кожаных переплетах, полными собраниями сочинений, и репродукции картин старых мастеров в прекрасных рамах; возвышенным образом жизни веяло от стильной мебели, среди которой было несколько книжных шкафов с застекленными дверцами, настольные лампы и торшеры, скамеечки и ковры; изобилие всего этого смущало. По сути дела, салон был коллекцией вещей: утрированное представление о том, что, по мнению матери Джо, должно украшать лучшие дома или что сохранилось в ее памяти; функционировал, судя по всему, только телевизор, за работу которого отвечал Джо.
На столе стояли приборы из великолепного фарфора и тяжелого серебра, это впечатляло. Я боялся садиться за стол. Джо только недавно научился готовить, это хобби он выбрал для себя только что, и вся его стряпня была несъедобной. Он этого не замечал, так как придерживался диеты; она ела мюсли и йогурт, что дало ей повод многословно распространяться о собственном аскетизме. Пока мать разглагольствовала, Джо заглатывал пищу и смачно жевал, пока тарелки и блюда не опустели, а затем, тяжело дыша, откинулся на спинку стула.
Я представления не имею, чем он занимался. Знаю лишь, что на досуге он фотографировал, немного писал акварельными красками и слушал пластинки с классической музыкой. Точно бронепоезд, пыхтя и дымя, катился он сквозь годы. А теперь его путь окончен, подумал я. Чем объяснить, что его смерть так задела меня? Быть может, меня ошеломила его непрожитая, так и не начавшаяся жизнь? Может, он знал что-то такое, о чем я не догадывался? Или же он, едва покинув лоно матери, тут же забрался в свое жирное тело, чтобы быть там в безопасности и никогда не страдать? Никогда не страдать? Разве его отношения с матерью не были страданием? Старуха в моих глазах была настоящей людоедкой. Она каждый день заново проглатывала своего Джо, потому и была такой толстой, несмотря на диету. Говорят, в каждом толстяке таится изголодавшийся доходяга, за недостатком любви или красоты (или познания) превратившийся в скелет и щепку несчастный, в своей жирной могиле вопиющий о пище. О жизни. Блудный сын, искатель счастья, как путник. Но к моему Джо это не имеет никакого отношения. Похоже, ему было хорошо и уютно в своем жирном теле. Он играючи оперировал цифрами, играючи фотографировал, немного готовил и писал акварельными красками, слушал музыку и изучал расписания поездов, и все, за исключением последнего, делал с грехом пополам. Жизнь была для него заранее обусловленным делом, ее можно было проспать, проесть. И уж наверняка для него не существовало проблемы художественного существования в том смысле, что оно не поддается воплощению в слове. Помню, с каким недоумением он реагировал на мои муки с писанием книг, на ежедневную борьбу с фразами и словами. Писательство, с его точки зрения, состояло в том, чтобы заносить на бумагу рождающиеся в голове мысли. Или у тебя эти мысли есть, или их нет.
И у него были такие толстые волнообразные ногти на больших пальцах рук, припомнил я. Не ороговевшие, а действительно волнистые ногти, закрытые, точно броней, хитином, я всегда смотрел на них словно загипнотизированный: вот сейчас они лопнут, как почки, и из них покажется листок или жучок. Я уже собрался было со вздохом признать, что из поминок по моему дорогому Джо ничего не вышло, как к моему столу подсел новый посетитель.
Это был человек маленького роста в шляпе с острым верхом и сигарой во рту. Приглядевшись поближе, я заметил, что сигара торчит у него не во рту, а в дыре. У человека отсутствовала нижняя половина лица. Должно быть, он попал в аварию и потерял челюсть и подбородок; из лоскутков кожи ему что-то пришили, оставив отверстие, в которое он запихивал сигару, насколько я мог видеть, он придерживал ее языком. Он начал что-то говорить мне, я почти ничего не понимал, он что-то бормотал, впиваясь в меня глазами, видимо, ему было нужно, чтобы на него смотрели. Я смотрел ему в лицо, стараясь не выдать смущения, и слегка кивал, делая вид, что слежу за его речью, и надеясь, что он избавит меня от своего присутствия. Что он и сделал. Не стал дожидаться официанта, а поднялся и зашагал прочь.
Сперва ногти на больших пальцах рук, а потом вот это. Задремал я, что ли? Может, это был ребенок с соской во рту или и впрямь человечек с сигарой, без нижней половины лица? Я давно уже толком не знаю, где кончаюсь я (то есть мое ограниченное «я») и где начинаются другие, или наоборот: где кончаются другие и начинаюсь я. Человечек меня не напугал, неприятно было лишь то, что я не понимал его, иначе бы с удовольствием с ним поговорил. Отсутствующая половина лица нисколечко мне не мешала.
Точно так же не мешал мне и человек-обрубок, недавно заговоривший со мной, когда я спал. Он стоял в городских воротах, вечер, итальянский вечер, ворота поросли плющом, каменная стена была теплой на ощупь. И чей-то голос, я не мог понять, откуда он доносился, позвал меня по имени. Голос принадлежал мужчине. Недавно я прочитал в газете, в каких ужасных условиях вы живете в Париже, сказал голос, плохо, незаслуженно плохо живете вы вдали от родины, в огромном городе. На что я раздраженно возразил, что я вполне доволен своей квартирой, своими жилищными условиями, я живу в самом центре прекраснейшего города и ни с кем не хочу меняться. Опять эти ложные сообщения и нежелательное вмешательство, подумал я, собираясь идти дальше, и только теперь заметил, что городские ворота служат укрытием для целой ватаги бродяг, они здесь разбили свой лагерь. Наконец я увидел и того, кто со мной разговаривал: он висел на стене, безногий обрубок с волосатым, покрытым желваками лицом. Но лицо было сама доброта, да и голос звучал волнующе мягко, проникновенно; глаза большие и печальные. Человек-обрубок и расположившиеся под воротами бродяги были отверженные, вероятно, прокаженные, они желали мне добра. Словно мало им было собственных страданий, они переживали еще и за меня, живущего полнокровной жизнью и наделенного всевозможными привилегиями, хотя и отягощенного собственными проблемами, прежде всего творческими, подумал я и поплелся в итальянский вечер.
Мне уже не хотелось устраивать поминки по своему английскому другу, я хотел помянуть всех своих друзей, вспомнить как можно больше людей. Пора расстаться с путником, прогнать его из своей книги. Я не хочу, чтобы он погиб. Погубил я всего одного персонажа одной из своих книг, мне было нелегко лишать его жизни и чертовски трудно придумать вид смерти. Тогда он у меня замерз, я где-то вычитал, что это безболезненный вид смерти. Путник ни в коем случае не должен умереть, думал я, ему надо всего лишь обрести покой. Слишком уж часто попадался он на моем пути, с высокомерной миной кающегося грешника. Ему не в чем каяться, это у Достоевского герои каются, не у меня. И тут мне пришла в голову мысль, как от него избавиться.
Переходя площадь, путник оказывается в многолюдной толпе: точнее сказать, в скопище зевак, толпящихся вокруг наполовину закрытого памятника. Да, готовилось открытие памятника, организаторы и знатные люди города были крайне взволнованы, и не только потому, что ожидалось прибытие президента страны, дипломатического корпуса, представителей разных церквей и партий, но главным образом потому, что колонна, возвышавшаяся над пьедесталом, украшенным надписями и рельефными изображениями на исторические темы, была пуста: самого памятника не было. Отсюда и волнение.