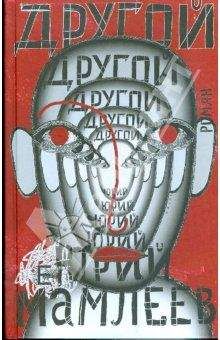На следующее утро — было оно субботним — они долго-долго спали, устав от водки, стихов и отсутствия Никиты, о котором Коля стал порядком забывать, но из-за сестры снова вспомнил.
Прошла еще неделя, под субботу Катенька забежала вечерком к своему братцу, в его однокомнатную квартирку, — немного прибрать в ней, холостяцкой, потому что всегда жалела Колю.
Пили только чай, но крепкий. Вдруг в дверь постучали. Стук был какой-то нехороший, не наш. Коля, однако ж, довольно бодро, не спрашивая, распахнул дверь. Перед ним стоял Никита. Брат и сестра оцепенели. Никита был немного помят, в том же пиджачке, в котором исчез, но лицо обросло, и взгляд был совершенно непонятный.
— Откуда ты, Никит? — пробормотал наконец Коля.
— Издалека, — прозвучал односложный ответ. — Принимаешь?
— Проходи.
У Кати из горла вырвался хрип ужаса.
Никита медленно вошел в квартиру. Это был он и в то же время уже не он. Что-то тяжелое, бесконечно тяжелое было в его глазах. И еще было то, что нельзя выразить.
— А все думали, что ты умер, Никита, — засуетился Коля. — А ты вон жив.
Катя еще не произнесла ни слова.
— На кухню все, к чаю! К чаю! — продолжал балаболить ведомый вдруг охватившим его полустрахом Николай. — Садись, Никит. Расскажи по порядку, что случилось, что с тобой произошло. Ведь ты был, а потом я тебя не видел.
— Хи, хи, хи! — вдруг неожиданно для самой себя захихикала Катя и была поражена этим.
Никита тем не менее ни на что не обращал внимания. Коля предложил ему стул. Никита медленно, по-медвежьи, сел.
— Может, споем? — предложил Николай и сам удивился своим словам.
Никита как-то грубо схватил заварочный чайник и стал наливать себе. Катя остолбенело смотрела на его движения. Да, это был Никита, немного обросший, но Никита. Ее вдруг охватило давнее волнение — желание слиться, вобрать в себя Никиту.
Но чем больше она вглядывалась в него, тем больше совсем другое состояние охватывало ее. От избранника веяло полярным холодом, но был этот холод не наш, а далекий, всеохватывающий и беспощадный. Ничего человеческого не было в этом холоде, исходящем от самого лица Никиты, от провала его глаз и от самой души. Глаза особенно были нечеловечьи, словно прорублены потусторонним чудовищем. И сама Катенька, ее тело стало леденеть — ее желание вобрать в себя Никиту, зацеловать исчезло, как сонный бред, как детская пушинка. Ей теперь трудно было даже смотреть на Никиту, не только ощущать его всеми нервами тела.
Между тем Никита сурово пил чай. Коля, стоявший около него наподобие лакея, все время бормотал:
— Отколь ты, Никит, отколь?
— Я сказал, издалека.
— Не убили тебя? — спросила Катя осторожно, глядя на его нос.
— Нет, не убили.
— Может, кто обидел тебя? — вырвалось у Кати, словно ее язык уже не принадлежал ей. Никита, кажется, даже не понял вопроса.
— О чем ты говоришь, Катя, — взбесился вдруг Николай, — дай человеку прийти в себя, четыре года человека не было.
— Ты что?! — вспыхнула Катя. — Ведь где-то он был!
— Нигде я не был, — твердо, с каким-то металлом в голосе ответил Никита.
Он взглянул на портрет Буденного на стене и зевнул.
Николай сел.
— Как это понять, Никита, — чуть-чуть резко спросил Николай. К нему медленно возвращалось обычное сознание. — «Нигде не был»! Что ты хочешь этим сказать? Тебя искала милиция, был объявлен розыск. И безрезультатно. Тебя украли, ограбили, заключили в секретную тюрьму?
— Ну хватит, — грубо оборвал Никита. — О каких ты все пустяках мелешь. Дай-ка сахарку…
Воцарилось напряженное молчание.
Потом Николай, подумав, спросил:
— Может, ты имеешь в виду, что там, где ты был, туда почти никому нет доступа?
Никита не отвечал, взгляд его уперся в стенку, как будто стенка была живым существом. Потом он медленным взором обвел окружающих, словно погрузив их в полунебытие.
И все же Николай снова спросил, уже взвизгнув:
— Ты знаешь, я читал в западных изданиях, что бывают внезапные и необъяснимые перемещения людей, мгновенные, из одной точки земли в другую, отдаленную на тысячи и больше километров. Расстояние наше тут не играет роли. Так были перемещены даже целые корабли с людьми. Но с сознанием этих людей что-то происходило тогда, они сходили с ума…
Никита пренебрежительно махнул рукой.
— О пустяках все говоришь, друг, — глухо, словно с дальнего расстояния, проговорил он. — О пустяках.
— Я, Никита, умереть хочу, — вдруг высказалась Катя. — И тебя поцеловать перед смертью.
Никита словно не слышал ее.
— Жить, жить хочу! — закричал Николай и резко смолк.
— Думаешь, я не хочу, Коля? — обратилась к нему сестра. — Но не так, как жили раньше.
— По-другому мы не умеем, — возразил Николай.
— А меня на шкаф тянет, — и Катя обратила свой пристальный взгляд на пыльный шкаф, стоящий в прихожей. — Наверх, вскочить на него или влезть на люстру, ту большую, что в комнате. И вниз посмотреть или запеть и раскачиваться.
— В муху я тогда воплощусь, в отместку, вот что, — заключил Николай.
— Почему в муху, — обиделась Катя. — Я мухой не хочу быть, а ведь должна буду — за тобой. Ты в одну утробу, и я в ту же… Ты в другую, и я в нее же. Поскачем давай по миру.
Николай дико захохотал.
Катя хлебнула чай прямо из горлышка заварочного чайника.
— Телевизор надо включить, Коля, — сказала она, отпив.
— Чай хорош, — угрюмо сказал Никита, — а туалет-то у вас где?
Коля показал направление. Никита встал и зашел в туалет, хлопнув дверью. Воцарилось молчание. Лица брата и сестры постепенно опять приняли нормальный вид. Катя нарезала белый хлеб и сделала бутерброд.
— Что-то его долго нет? — тревожно спросил у сестры Николай, когда прошло четверть часа.
— Может, много чаю выпил. Ишь как дул, — тихо промолвила Катя.
Но Никита все не выходил и не выходил.
— Это уже становится интересным, — нервно сказал Николай. — Что он там делает?..
— Пойдем постучим ему.
Они подошли к двери. Постучали. Дернули — туалет заперт изнутри. Но ответом было молчание.
— Что он там, умер, что ли? — И, разъярившись, Николай с бешеной силой рванул дверь. Раздался треск, дверь распахнулась. Они заглянули. Внутри никого не было. Кругом тихо.
Катя дико закричала.
— Где же, где он?! — заорал Николай и стал бегать по всей квартире взад и вперед, опрокидывая стулья. В квартире было отсутствие. Катя, красная от ужаса, подошла к брату и крикнула ему в лицо:
— Как жить-то теперь будем, как жить?!
Было лето. Солнце на пустом небе светило, как раскаленная печка в аду. Нью-Йорк — низкий, приземистый, особенно по сравнению с бесконечным небом над ним, — задыхался, но каменные громады — непомерно большие, если смотреть на них вблизи, — были ко всему безразличны. Они застыли на жаре как истуканы, лишенные тайного смысла.
Огромное каменное кладбище загромоздило пространство на берегу пролива Гудзона против небоскребов Манхэттена, надгробия походили на маленькие небоскребы; такие же монотонно тупые, с улочками между ними, непробиваемые… они теснили друг друга, словно им не было места.
Место действительно стоило очень дорого.
Рядом прорезалось шоссе, громыхали машины, но ни живые люди, ни мертвые почти не слышали этот грохот, оглушенные своей жизнью и небытием… По ту сторону шоссе и города мертвых громоздился город живых, уже не Манхэттен — а другой регион: скопище кирпичных двух-трехэтажных безобразных домиков, напоминающих в целом прочный муравейник.
…Почти над всеми каменными надгробиями возвышались такие же тяжелые кресты, которые напоминали почему-то молотки. Редкие изваяния ангелов у могил были на редкость стандартны и безличны.
Крэк вылез из ямы около одной такой могилы. Нет, он был живой и не похоронен еще. Просто Крэк, ничего не понимая, любил жить около камней. Кладбище напоминало ему Манхэттен, но в Манхэттене могли убить, а на кладбище — реже. Поэтому Крэк очень любил его.
Был он толстоватый мужчина средних лет, в потертом грязном черном костюме и с редкими волосами на голове. Юрковато оглянувшись, он направил свой путь туда — в бездну домишек за кладбищем. Скоро он очутился на улице.
Озираясь на подозрительных людей, он вошел в местный бар, неотличимый от домов-коробочек на улице.
— Хау а ю (How are you)? — спросил он.
— Хау а ю (How are you)? — ответили ему.
Потом он просидел молча полтора часа за двумя стаканами пива. Молчали и все остальные, рассевшиеся на длинных стульях вокруг стойки бармена. Только орал телевизор в углу: кого-то резали.
Через полтора часа первая более или менее спокойная мысль вошла в голову Крэка: «А ведь скоро я буду хохотать».