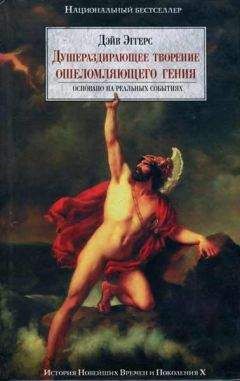Он говорит спокойно и ровно. Его руки покоятся на туловище, они потонули в охряном свете; в остальных частях палаты темно.
Вот так и надо умирать. Это драматично, это как положено — вечером и именно при таком освещении. Отец выбрал гораздо более нелепый вариант — в одиночестве, средь бела дня.
Он снова упал, на этот раз — в душе.
Стал звать Бет. Та побежала к нему и перетащила его на кровать. Вызвали «скорую». Мы думали, его продержат там неделю, пока он восстановит силы, и ничего особенного не произойдет. Всего за несколько месяцев до того ему поставили диагноз. Через неделю разрешили посещения; позвонил врач, сказал, что дела идут скверно и это может случиться в любой момент.
Мать усмехнулась. Они с Бет зашли.
Какое-то время они просидели в палате, в дыму.
— Заходите попозже, — сказал он. — Я хочу поспать.
Мы поехали домой.
— Да не умрет он сегодня, — сказала мать, удивленная всеобщей тревогой. — Ни сегодня он не умрет, ни завтра, ни на следующей неделе. Его ведь только что положили.
Он умер через час.
— Он был самый лучший водитель из моих знакомых, — говорит Стюарт. — Как он просачивался из одного ряда в другой; «просочиться» — это было его словечко… «Смотри, сейчас просочусь в тот ряд…» — говорил он. Невероятно. Он менял полосы, объезжал по обочине…
Я рассказываю Стюарту, как он, купив «ниссан-280», единственную новую машину в своей жизни, первым же делом приспособил ее под себя. Пепельницу укрепил на дверце, а ремни безопасности обрезал. Мы все знали, что он не великий поклонник ремней безопасности — он считал, что те попирают его гражданские права и абсолютно неконституционны. Странно было, что он срезал ремень не только у водительского, но и у пассажирского сиденья.
Дверь открывается. Заходит миссис Стюарт.
— Ой, ты все-таки пришел.
Я смотрю на нее. Пожимаю плечами.
— Я вас оставлю вдвоем на несколько минут.
Она уходит.
Звонит телефон. Стюарт снимает трубку.
— О, привет. Можно я тебе перезвоню?
Ему приносят ужин. Он предлагает мне бутерброд с сыром.
— Нет, спасибо.
— А суп?
— Спасибо, нет.
Я спрашиваю Стюарта, считает ли он, что отцу перед смертью было одиноко.
Звонит телефон. Какое-то время он разговаривает. А повесив трубку, не возвращается к моему вопросу, и я не переспрашиваю.
Возвращается миссис Стюарт, и несколько минут мы разговариваем все вместе. Потом я ухожу. На парковке некоторое время разговариваю со своим диктофоном, потому что уже начал забывать многое из того, что рассказал мне Стюарт.
Утром мы с Грантом и Эриком завтракаем в ресторанчике, смотрим на проходящих людей в джинсах и кожаных куртках — зимой в Чикаго так и положено.
— И что ты делал вчера? — спрашивает Грант.
— Да так, — говорю я. — Съездил домой, покатался немного.
Я вспоминаю, что видел его маму. Мама Гранта каждый день проходит несколько миль по Вестерн-авеню. Я проехал мимо.
— Поздоровался?
— He-а. Я понял, что это она, когда уже было поздно.
— Ой как обидно.
— Да, обидно.
— А что сегодня будешь делать?
— Наверное, снова туда поеду.
— Зачем?
— Не знаю. Так. Может, в школу заеду.
Грант секунду смотрит на меня. Может, он знает.
— Ну что ж, передавай привет школе Лэйк-Фореста.
Мистера Якабино, владельца похоронного бюро, нет на месте. Есть человек, который помладше меня; его светлые выпученные глаза прикрыты очками. Его зовут Чад. Я захожу, отряхиваю снег с ботинок. Объясняю: я ищу документы, собираю их, а мои родители прошли через их бюро, и мне нужны любые бумаги, которые у них могут найтись.
— Давайте-ка я позвоню, — говорит он.
Он исчезает, чтобы позвонить домой мистеру Якабино, и оставляет меня наедине с выставкой гробов. В комнате их примерно одиннадцать, у каждого — свое название в соответствии со стилем и предполагаемой ценностью. Поскольку наш город иногда выглядит таким, каков он и есть на самом деле, эти гробы экстравагантны, один изысканнее и красочнее другого. Есть гроб, который называется «Посланник». Другой словно сделан из стали. Некоторые названия я записываю в блокнот, который потом потеряю. Меня не будут хоронить, уверяю я себя. Я просто исчезну. Или к тому времени, когда я умру, появятся устройства, использующие передовую лазерную и оптоволоконную технику — они будут аннигилировать человеческие тела сразу после смерти, но при этом не будут их сжигать. Человек умирает, через некоторое время приходят операторы устройства, собирают машинку — она будет портативной — нажимают несколько кнопок, и тело постепенно испаряется. Не будет никаких погребений, никто не будет носить тела, рассматривать их, бальзамировать, выкапывать дыры в земле, сооружать для них роскошные ящики, ящики повышенной прочности, ящики с двойной обшивкой…
Или меня отправят в космос. Или к тому времени людей — мертвых — будут хоронить в белых башнях высотой в милю. Почему бы вместо дыр в шесть футов глубиной не строить башни в милю высотой? Естественно, у инженеров и архитекторов будут определенные трудности, и еще возникнет проблема территории. Но с территорией как-нибудь разберутся. Есть, например, Гренландия, бескрайняя и белая, как небо…
— Нашли то, что вам понравилось? — спрашивает Чад. Он стоит у меня за спиной.
Я ухмыляюсь. Смешно.
У него в руках папка. Мы садимся за черный стеклянистый стол, за которым обсуждают детали предстоящих похорон.
— Вот что у нас есть, — говорит он.
В папке — бумаги, где сказано, что похоронное бюро «Уэнбан» получило оба тела, отслужила службу по отцу и проконтролировала передачу тел.
Документы по отцовской панихиде подписаны матерью, по материнской — сестрой. Мне эти бумаги нравятся. Это — доказательство, единственное доказательство, которое у нас есть.
— Значит, это все? — спрашиваю я.
— Именно так, — говорит Чад.
Я спрашиваю, может ли он сделать копии этих документов. Он отвечает: почему бы нет. Идет вниз; это займет пару секунд.
Ступеньки вырезаны посреди фойе. Я смотрю, как он по ним спускается.
Вдоль стены за моей спиной выставлены разные надгробные памятники. Разные размеры, материал, форма и порядок расположения информации. Вариантов много: сверху можно написать имя, а можно — годы жизни, а можно вообще не писать годы жизни. Или над именем могут быть какие-нибудь слова — «любимому» или «вечная память». Может, мне надо купить такой камень. Это будет хорошо — иметь его. Этот камень меня спасет, искупит весь вред, который мы уже нанесли, вернет все то, что мы потеряли и от чего отказались.
Чад поднимается по лестнице. В руках у него — маленький коричневый ящичек. Он ставит этот ящичек передо мной на стол.
— Это бред, конечно, — говорит он, — но я сейчас был внизу, у ксерокса. За каким-то чертом я посмотрел на полки, и посмотрите, что увидел.
На картонном ящичке — наклейка, и там от руки написано:
Хайди Эггерс
— То есть это…
— Да, это ее прах. Наверное, когда-то прислали его нам. Не очень понимаю, почему вам его не выслали…
Я дотрагиваюсь до ящичка.
Господи.
Чад встает:
— Все-таки я схожу вниз и сделаю копии.
Блядь. Господи боже. Блядь.
Ящичек размером примерно в фут по всем измерениям, заклеен прозрачной упаковочной лентой. Простой, коричневый, квадратный, как и должен выглядеть ящик, который посылают по почте. Из наклейки явствует, что его прислали из Чикагской донорской ассоциации. Сколько он здесь пролежал? Не могу найти почтовой марки.
Я должен позвонить Бет. Биллу звонить не буду. Билл не захочет об этом слушать. А вот Бет…
Нет, Бет я тоже звонить не буду. Она станет дергаться.
Возвращается Чад с ксерокопиями.
Я благодарю его, собираю бумаги, складываю их в папку из своего рюкзака и встаю. Беру ящичек и…
Совершенно не представляю себе, имелись ли у меня предположения насчет его веса, но он тяжелый. Фунтов десять минимум.
Я выхожу на улицу.
На меня обрушивается холод. Я поворачиваюсь спиной к ветру, чтобы прикрыть ящик. Боком подхожу к машине, открываю правую дверцу и ставлю ящик на сиденье. Обхожу машину кругом, на цыпочках ступая по льду, открываю дверь и сажусь за руль.
Я поворачиваюсь к ящику.
Этот ящик — моя мать, только меньше.
Этот ящик — не моя мать.
Является ли ящик моей матерью?
Нет.
Но потом я вижу на ящике ее лицо. Мой больной разум заставляет меня разглядеть на ящике ее лицо. Мой разум хочет, чтобы все стало страшным и невыносимым. Я пытаюсь сопротивляться, осознать, что все идет нормально, но я-то знаю, что я чудовище, не надо было сюда приезжать, из-за того, что я всегда ищу плохое, плохое мне и преподносят, мне вообще не надо было задавать этих вопросов, а из-за того, что я их задаю, делается только хуже, более жестоким. У меня все плывет перед глазами. Меня трясет. Я хочу куда-нибудь переложить ящичек — например, в багажник, — но знаю, что перекладывать его в багажник нельзя. Ящичек, который не является моей матерью, не должен лежать в багажнике, ведь если я пихну ее в багажник, она озвереет. Блядь, да она меня просто прибьет.