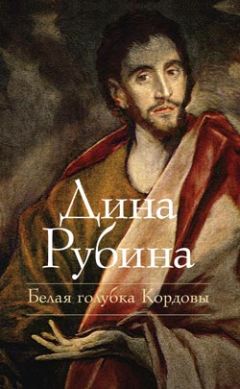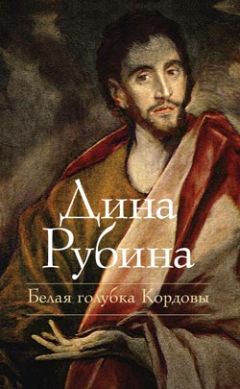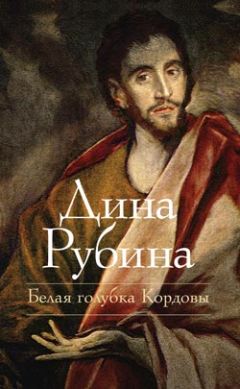Он усмехнулся.
– Ты проницательна, детка…
Минуты три молча стерег кофе, и Марго так же молча ждала от него объяснений.
Наконец он снял турку с огня, неторопливо выбрал на полке свою любимую чашечку – из сувенирного киоска Прадо, с белобрысой и пухлощекой принцессой Маргаритой, – слил в нее кофе и сел напротив Марго.
– Только не пугайся, ладно? Тебя вся эта чушь не коснется. Я влип в некую историю, и сейчас думаю – как из нее выбираться… Погоди-ка, Марго. Помолчи, ради бога… Вот что я хотел сказать: пока то да сё, пока я буду крутиться-разбираться, ты должна кое-что провернуть. – Он ласково и властно ей улыбнулся, наклонился через стол и ободряюще потрепал ее по руке.
– Слышишь, Марго? Все будет отлично. Там, внизу, в тубе три холста. В ближайшие дни ты натянешь их на подрамники, оденешь в приличные – приличные, а не помпезные – рамы и повезешь в Цюрих, к Софии Боборыкиной. Пусть княгиня повесит их в сигарной комнате отеля. Это ознакомительная, объявительная акция… Три великолепных пейзажа. Цены тебе неизвестны, принадлежат некоему коллекционеру, который охотится именно за оставшимися полотнами этого автора. Художница – круга Ларионова и Гончаровой, и стремительно поднимается в цене. Вале?
– Зачем? – тревожно спросила Марго. – Если ты не собираешься их продавать, на фига весь этот цирк?
– Делай, что я тебе говорю. Их пока нельзя продавать: не уселся красочный слой и, главное, нет провенанса. Как раз этим я думал сейчас заняться, но, видишь… планы несколько изменились.
– Сколько дней ты здесь пробудешь?
Он взглянул на часы:
– Минут десять. Вот кофе допью…
– Захар! – крикнула она. – Боже мой, что произошло? Ты меняешь билет на самолет, чтобы выпить у меня кофе?!
– Чтобы завезти к тебе картины, дурка, – ласково проговорил он, поднялся, обошел стол, поцеловал ее в мокрую темно-рыжую макушку с сединой у корней. – Будь молодцом и, умоляю тебя, Марго: запирай двери! Ты же одна целыми днями.
– А ты… ты сейчас куда? – спросила она тревожно. Он усмехнулся:
– Понятия не имею. Но ясно, что куда-нибудь, где нет моих следов. Где я уж точно никак не мог бы оказаться… – в Кордове, например! Мне надо отсидеться где-нибудь, составить план…
– Где же они тебя отыскали? – спросила она, не двигаясь.
Он вздохнул и легко ответил:
– В Риме. Причем довольно остроумно. Позвонили домой Ирине, очень вежливо поинтересовались, не знает ли она, когда вернется Захар Миронович – мол, неотложная нужда в консультации по одной картине, – и эта услужливая дура поспешила доложить, что Захар Миронович сейчас в Риме.
– Ты всегда выбирал в подруги клинических идиоток, – заметила она с горечью. – Поэтому до сих пор не женат.
Он обнял ее огромные, как каменные глыбы, опущенные плечи:
– Не грусти, моя радость! Отвечай: как называется местечко, где осадков за день выпадает больше, чем в Питере?
– Чирапунджа… – упавшим голосом проговорила она, опустила лицо в ладони и неожиданно тихо расплакалась.
В прихожей он еще давал ей какие-то указания по картинам. Все получалось удачно: княгиня София Боборыкина как раз намечала в ближайшие недели два благотворительных бала.
Наконец, они расцеловались, он вышел. Но обернулся.
Марго стояла на пороге и смотрела ему в спину.
– Марго! – окликнул он ее. – Выясним, черт побери! Мне это снилось, или я когда-то все же тебя ласкал?
– Болван, – проговорила она, помолчав… – Это лучшее воспоминание всей моей жизни.
– Ты никогда словом не обмолвилась.
– А зачем? – спокойно возразила она. – Ты был не для меня предназначен, дон Саккариас…
– А для кого? – тихо спросил он.
– Ну… это уж тебе видней… Слушай, – она вдруг грустно и доверчиво оживилась, – а ты все такой же потрясающий ёбарь?
Если б это словечко употребила Ирина или кто-то другой из его избранниц, его бы, вероятно, покоробило. Но Марго – это другое дело.
Бедный мой, толстый бравый солдат…
– Что ты! – Он нежно ей улыбнулся. – Я давно уже старый импотент.
… Он съехал на дорогу, ту, что часа через полтора должна была пересечься с нужной ему автострадой, и вдруг подумал: интересно, почему – Кордова? Неужели она пришла ему в голову из-за нелепого предутреннего сна? Или старинный художник, с фамилией, произросшей из этого города, не дает ему покоя? Или его святой пират Бенедикт, чек за которого надежно сколот английской булавкой в нагрудном кармане рубашки («Зюня! Научись ценить деньги. Десять рублей – большая сумма, их лучше заколоть, чтоб не дай бог!») – святой пират, столь похожий на него самого, не может простить этой беззаконной сделки?
Он тряхнул головой, прогоняя навязчивую дремоту: еще ехать и ехать, а кофе совсем не взбодрил; глянул на спидометр, включил радио и увеличил скорость.
«Юг – это свет, что льется на соль, на герань и на розы… – пела Исабель Пантоха, и ликующе-печальный голос ее рвался в окно, опережая машину… – Красный цвет драмы, веселье фиесты, света мазки на воздуха синем холсте… Юг – это свет в голосах твоих лучистых поэтов. Откройся весь югу, останься со мной, под оливами, целуй меня в губы…»
Темно-лиловая гора на равнине в сумерках напоминала поставленную среди поля гигантскую пелерину черного испанского плаща…
Впереди, по переходу, ведущему к воротам в Старую Кордову, мерно двигалась процессия. Издалека показалось – все в черных балахонах. В метре от него в соседнем ряду остановилось такси, и пассажир на переднем сиденье – пожилой господин со щегольскими усиками на полном лице, слегка высунувшись в открытое окно, с удовольствием наблюдал странное шествие.
Наткнулся на его вопросительный взгляд и приветливо улыбнулся.
– Что это? – спросил Кордовин. – Похороны? А где же гроб?
– Бог с вами, сеньор, это парад испанских плащей, – ответили усики с явной обидой. – Сегодня к нам отовсюду съехались люди в поддержку испанского народного плаща.
– В поддержку… плаща? – переспросил он.
Процессия, наконец, достигла кромки тротуара, светофор переключился, и две-три секунды, пока разгонялись машины впереди, Кордовин смотрел на медленное шествие.
Поголовно все мужчины и женщины одеты были в черные плащи с пелеринами. Многие – в сомбреро-кордовес, черных шляпах с широкими полями и плоской тульей, украшенной красным или белым цветком.
Алые языки подкладок при ходьбе облизывают ноги – сдержанная мощь огневого испанского нрава. Действительно – парад. Парад старперов. Один, кажется, даже с ходунком. Молодцы, старичьё! Жуки – вот кого не хватает для поддержки народного испанского плаща.
– Театр, театр… – одобрительно пробормотал он, перестроился в левый ряд и свернул на центральную муниципальную стоянку неподалеку от суровых зубчатых стен Алькасара, где под акациями и платанами вереницей стояли запряженные лошадьми открытые пролетки с возничими – коче де кабалъос – сезонный бизнес… Пахло навозом, лошадиным потом, жасмином и жареными каштанами.
Туристическая дребедень, подумал он, обветшалая Колония Патрисия, до дна обмелевшая гордая Кордуба, стертая шарканьем беспросветных веков…
Но, спустившись по улице вниз и свернув налево – по указателю на «Мескиту» – эту самую Мескиту, великую Кордовскую мечеть, он и увидел. И остановился.
Громада из охристого известняка покоилась на высоком плато-фундаменте, полосатыми чалмами сидели на окнах подковообразные арки; высокие, обитые желтой медью двери грозно и таинственно блистали в глухой зубчатой стене…
Скалистый остров Мескиты со всех сторон тесно обступали беленые старые дома, покрытые лишайно-пегой черепицей. Вообще весь массив жилой застройки Старой Кордовы выглядел как суровый, беленый известью монолит с узкими протоками улиц.
На ближайшем углу он заметил вывеску небольшого отеля: «Конкистадор» – туда и свернул, и за пять минут снял номер на втором этаже.
* * *
На всей обстановке его комнаты лежала слащавая печать Магриба: вычурная мебель обита алым, с золотыми полосками, шелком, от стола и кресел, от занавесей и ламп, от резных алебастровых медальонов на стенах разило гаремом султана, каким его представляет обычно турист из Германии… Словом, здесь царил восток в самой худшей его ипостаси. К тому ж и пахло каким-то приторным освежителем воздуха.
Зато оба окна смотрели на необозримую стену Мескиты, которая тоже была – Восток, но вкрадчивый, беспощадный и неистребимый, – хотя уже столько веков прикидывалась христианским Собором.
Он подошел к окну, чтобы отворить его и проветрить душную комнату, увидел на подоконнике за стеклом белую голубку – удивился, умилился…
– Привет, – пробормотал, – привет, мой тотем!
Но к этой немедленно слетела вторая, точно такая же, а когда он перевел взгляд на улицу, то на крыше Мескиты, под узорными двойными арками ее окон, на убористой гальке тротуара внизу увидел целые стаи белых голубок. Здесь был просто заповедник этой разновидности голубей, их рай, их вотчина…