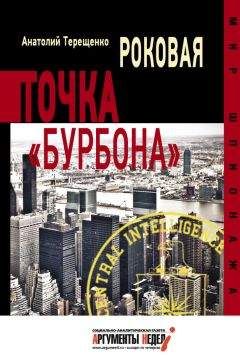Виктор. Сурен украл с Доски почета. Мерзкая рожа… Но фотообъектив! Не зря это называется объективом!
Пашкин. Все остришь. Это хорошо. Я думал, утешать придется, а ты молодцом. И правильно, плюй. Как они обожают осуждать: ах, такие, ах, сякие. Я тоже одно мероприятие провернул, так мне эта Сашкина дама, Ирка, говорит: «Ты, Пашкин, свинья!» А почему? Если все время говорят: «Ты свинья, ты свинья», так и вправду захрюкаешь. А ты мне вдруг скажи: «Ты, Пашкин, орел!» — ия, может, полечу.
Виктор. А за что ж тебя орлом называть?
Пашкин (запальчиво). А свиньей за что? Я, если хочешь знать, иногда просыпаюсь и смотрю на небо: солнышко там, облака беленькие, птицы кричат, и все само по себе без расчету. И такая вдруг охота тоже жить! Чтобы сам по себе, как чувствуй, так и живу. И думаешь, нет, правда, люди, скажите мне когда-нибудь: «Пашкин, ты — орел!» Или лучше: «Шурик, ты — орел!»
Виктор. Пашкин, ты — орел!
Пашкин. Спасибо. Но это как-нибудь иначе надо сказать. Хотя, конечно, на меня можно смотреть косым глазом! Ну кто я, в сущности? Руководитель самодеятельности — по должности. По штату — такелажник нашего цеха. По сути — никто… А раньше получал ставку крановщицы, а еще раньше вообще по какому-то безлюдному фонду. Понимаешь, я человек, а получал по безлюдному! Мои песни не предусмотрены штатным расписанием, из-за меня финансовые органы и районные газеты жучат начальников. Я — незаконный байстрюк. (Выпивает.) Но на меня же есть спрос. Все время имеется спрос! Именно на вот такого. Годного для всякой дырки в затычки. И я могу сказать всем честным и чистым, которые меня осуждают или называют свиньей. Я им могу сказать, как Дружников из кинофильма Островского «Без вины виноватые». Я могу крикнуть: «Извиняюсь, я же ваше дитя!»
Виктор. Ты что, пьяный?
Пашкин. Зачем? Я трезвый. Это ты пьяный. Но разница не принципиальная. Вот мой папаша назвал меня Шурой. Александром. Желая приблизиться к великому — Александр Сергеевич Пашкин, всего одна буква разницы. А пропасть! А тут — ты пьяный, я — трезвый, а разницы никакой… Но вот ты для чего замарался? У тебя же чистая должность… Тебе же незачем…
Виктор (очень серьезно). Ты в самом деле считаешь, что между нами нету никакой разницы? Ну хорошо, я не бил, как Сашка, лбом в стенку, но я ведь порядочный человек! Я не сделал в жизни ни одной гадости. И работа моя не по безлюдному фонду. По самому золотому фонду! Ты же не будешь отрицать? Я тебе все совершенно честно говорю — в такой день и в таком настроении я бы и под пыткой не стал врать! Я тебе честно говорю: я порядочный человек. Если бы все люди были как я, — сегодня же наступил бы рай, коммунизм, я не знаю что! Почему же я вдруг перед вами такой черный? Украл я? Или убил? Или пожелал жены ближнего своего? Или как там — не помню, — кажется, ближнего своего?
Пашкин. Ну что ты меня спрашиваешь? Наверно, что еще есть. Тот же Сашка, тот же Костя. Или этот твой армянин. Они, может, и жену чью-нибудь пожелают, и убьют кого-нибудь, кто гад, и еще что-нибудь нарушат. Но они всегда знают за что! Они вроде как шире себя. А мы с тобой тютелька в тютельку, больше себя ничего не вмещаем.
Виктор. Чьи это слова? Твои, что ли? Шире, понимаешь! Выше! Вмещаем!
Пашкин. Ладно, я пошел. Испортил тебе всю свадьбу… (Выпивает на дорогу рюмочку, вздохнув, уходит.)
Виктор. Нет, все правильно. Пашкин прав, что угодно можно поднять! Опустить тоже можно. И все можно петь на любой мотив. Любые слова. (Делает несколько гимнастических движений гантелями, потом, продолжая упражнения, начинает петь зло и отчаянно на разухабистый мотив «Имел бы я златые горы».)
Восстань, пророк,
И виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги-и сердца людей,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги-и сердца людей.
Останавливается на мгновение и вдруг отчаянно и сильно залепляет гантелей в свой портрет. Звон разбитого стекла.
Коридор общежития, телефон, над ним несколько плакатов: «Королеву полей — на силос!», «В жизни всегда есть место подвигу», «Молния. Привет девятой комнате — комнате коммунистического быта», «Позор и стыд шестой комнате и лично Кузяеву за распитие напитков и грубые пререкания с комендантом». Девушка с золотым зубом говорит по телефону. Рядом мается Саша, видимо ожидающий очереди.
Девушка с золотым зубом (зло и жалобно). Я знаю, кто тебе это говорил! Это тебе Галька Капшунова говорила. Но я пойду до нее и плюну в ее поганые очи… Что? Не Галька? Но я все равно знаю, кто говорил. Это та, рыжая, из второй комнаты. Но ты знаешь мой характер. Я прямо подойду…
Саша. Тась, я тебя умоляю, закругляйся…
Девушка с золотым зубом. Сейчас, Сашенька. (В трубку.) Ну, ладно, Клава, как хочешь. Я все равно узнаю…
Саша. Кого это ты?
Девушка с золотым зубом. Закурить есть?
Саша. А ты куришь?
Девушка с золотым зубом. Закуришь тут… запьешь… Какая это гадина про меня распустила, что я с Толиком встречаюсь? А этот Гиковатый, Пал Палыч, моральный вопрос поднял. Что я женатика завлекла, разбиваю советскую семью. А чего же его жена? Она хорошо живет, как кошка! А я мучаюсь.
Саша. Погоди, Тась, минутку… (Набирает номер.) Квартира товарища Сухорукова? Доктора Волчкову, пожалуйста… По делу. Это говорит… Иванов из райздрава! Ушла? Давно? Спасибо.
Девушка с золотым зубом. Тоже бедуешь?
Саша. Да так как-то… Вроде все просто и ясно, а не понимают. Ну никак.
Девушка с золотым зубом. Этим, Сашенька, полмира бедуют. Одним горе, что их не понимают. А другим, наоборот, страх, что их вдруг поймут. Вот поймут — и все, и конец им…
Появляется Гиковатый. Он сильно навеселе.
Гиковатый (Тасе). А-а-а, мадемазель! (Поет.)
Любила меня мать и уважала,
Что я ненаглядная дочь,
А я с офицером убежала,
В ту темную ненастную ночь.
Девушка с золотым зубом. Несправедливый вы человек. Вы же знаете, ничего у меня с Толиком такого нет. Одна любовь.
Гиковатый. Прелюбодеяние есть прелюбопытнейшее деяние. Как говорил мой папаша. Культурнейший был человек, хотя и простой телеграфист. Про твою любовь профсоюзу ничего не может быть известно. Аморалка в телефонной будке была! Целовались. Два человека видели. Так что по заслуге вору и казнь.
Девушка с золотым зубом. Да уйдите вы, злыдень…
Гиковатый. Чего это я вдруг уйду? Здесь пока еще территория нашей родины, и я пока еще гражданин СССР, имею право находиться! И выпил законно. У меня сегодня внучечка родилась…
Девушка с золотым зубом. Ох ты, господи… (Убегает.)
Гиковатый. Битте-дритте, дверь дитюр…
Саша. Ну и тип же вы! В оккупации небось полицаем каким-нибудь были?
Гиковатый. Не-ет, голубь, нет! Ни в чем я таком не был. Ни в оккупации, ни в полиции, ни в оппозиции. Напротив — одни грамоты и благодарности. И орден на заслугу лет. (Снисходительно.) И если желаешь знать, мне тебя жалко. Вот тебя отовсюду выгнали. Так? Поганой метлой, можно сказать. А мне всегда будет почет и предпочтение. Хотя ты какой благородный и разблагородный, а я — правильно — подлый человек, без малейшей святости в душе. Но тем не мене-е… Я это тебе вот как сыну объясню, по-доброму… И зря ты на Як Палча полез. Напрасно! Это только в сказочках, в сочинениях вот такусенький Давид вот такого Голиафа — и наповал. Ха-ха!
Саша. Слушай, папаша, катись отсюда к чертовой матери…
Гиковатый. Не-ет, ты послушай, послушай. Ты воспользуйся, что я сейчас душевный, выпивший. Я тебе, как сыну…
Входит Фархутдинов с большим портфелем.
Гиковатый (неуловимо перестроившись). Здравствуй, Ахат Фархутдинович.
Саша. Здрасьте.
Фархутдинов. Здравствуй… Здоров, Саша. (Гиковатому.) Слушай, Павлович, ты что же это в партгосконтроль совсем не ходишь? Твоя же нагрузка.
Гиковатый (вроде бы отчаянно). Моя. Все нагрузки мои. И постройкой, и культкомиссия. И то, и се. У нас же всегда так: видят, что человек — дурак, болеет за общественность, так давай еще, еще давай грузить… (Словно опомнившись.) Ты извини, я грубо, попросту… И выпил я тут еще. (С застенчивой усмешкой.) Внучечка у меня сегодня родилась…
Фархутдинов. Поздравляю, Павлович…
Гиковатый. Валентиной назвал. Валечкой. В честь Чайки космоса.
Фархутдинов. Ну поздравляю, поздравляю…