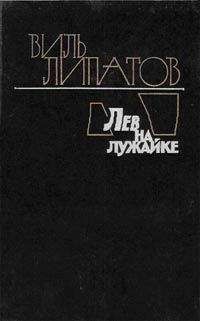II
Я и предполагать не мог, что полосу «Вечно молоды» прочтут наверху и скажут: «Хорошо!», а Иван Иванович приплетется ко мне в кабинет и облобызается со мной. Я надеюсь, что читатели исповеди-исследования – одновременно читатели и подписчики «Зари», и не сомневаюсь поэтому, что они помнят полосу «Вечно молоды». Маленький шедевр, хоть казните меня за хвастовство! Полоса незатейлива, проста, как морковка, но все было подлинным. Меня, знаете ли, премировали – сто рублей. Мне позвонил один крайне значительный человек, он поздравил и простецки пригласил забегать, когда буду в доме на Старой площади. Я спросил:
– Это обязательно?
Он развеселился и сказал, что вот теперь – после нахального вопроса зазнайки – обязательно, и он мне покажет кузькину мать. Мы положили трубки с хохотом. Все было отлично до семи часов вечера, пока не пришло известие, что Костя, мой бедный сын Костя, смотался в неизвестном направлении. Записка меня ошеломила: «Я не был и не буду мещанином». Это не могло относиться ни ко мне, ни к матери, ни к деду, ни к бабушке… Он совершил преступление, расколотил молотком пианино и сжег все ноты, кроме одного листа: «Главное, ребята, сердцем не стареть…» Поразмыслив, я приказал своим не искать Костю. Я сел в кабинете – теперь у меня был домашний кабинет – и стал раскладывать пасьянс «Наполеон» – ничегошеньки не сходилось, и я в последний и окончательный раз решил Костю не разыскивать и домой не заманивать. А вот кроссворд в «Вечерке» я отгадал от начала до конца.
– Эрудит, твою мать! – зло сказал я, после чего лег и мгновенно уснул. Уверен на сто процентов, что ко мне никто не заходил.
Снились мне Коростылев и отцовские оранжевые «Жигули». Это я обнаружил в четыре часа ночи, проснувшись счастливым и бодрым, как школьник в первый день каникул. Я принял душ, сел за стол и до прихода машины в девять тридцать написал передовую. Что хотите со мной делайте, но на работу я прибыл счастливым – передовая удалась…
День обещал быть хорошим – первой сквозь стеклянные двери прошла женщина…
Часов через пять узналось, что потерялась моя жена Вера, я помчался домой, были подняты все силы, чтобы найти ее, и я – это, к сожалению, объяснимо – представлял ее не случайной жертвой города, а добровольной. Когда поиски были в разгаре, Вера пришла вместе с Костей, спокойным и прилично одетым: на нем был новый костюм. Усталая Вера сказала:
– Он сам тебе все расскажет, а я должна проспать сутки.
Косте шел тогда шестнадцатый год, походил он лицом на мать, фигурой на меня, а манерами на бабушку – этакая вдумчивая медленность. В нем не было ни грамма суетности, которая все-таки есть в каждом из нас. Он захотел разговаривать со мной почему-то в моем кабинете, а не в своей комнате. Позже я понял причину. Он любил меня и думал, что в кабинете ему будет легче скрывать любовь. Он шел первым, я позади, поражаясь, что он в пятнадцать лет был на полголовы выше меня, и в каждом его движении чувствовалась зрелая основательность.
Он сел, скромный и спокойный, значительный и сильный. Было понятно, что он первым разговор не начнет, а мне что делать? Спросить: «Ну, как дела, сын?» или: «Как ты смел, как ты…?» Смешно! Эх, если бы он знал, какой его отец был в пятнадцать лет! Я походил на бочку с порохом, которая должна вот-вот взорваться! И все-таки я нашел, с чего начать.
– Костюмчик клевый, Костя. Где дают?
Он принял мой тон.
– Хошь достану?
– А мой размер ты знаешь?
Костя засмеялся:
– А ты, папа, безразмерный.
Вот так. Спокойный, скромный и – любящий, поверьте мне, чувствующий ко мне родство, уверенный в ответной любви. Ни разу в жизни я его не ударил, даже не закричал как следует. Воспитывала Костю мать, а я трудился, трудился и трудился, чтобы Константин Ваганов ни в чем не нуждался, носил самые «фирменные» джинсы и куртки на ста замках-молниях, чтобы, наконец, называя свою фамилию, сын мог произносить ее громко, если ему это понадобится. Я сказал:
– Ну ладно, ты меня оскорбил, сделал мне больно, и я, наверное, имею право тебя спросить: за что ты меня презираешь?
Он ответил:
– Папа, я тебя не презираю, а жалею за то, что сам не умеешь жить и другим мешаешь…
– Факты, Костя, факты!
Он по-мальчишески тяжело вздохнул:
– Эх, папа, если бы были факты! Но я чувствовал, что мы живем неладно. – Он вдруг жалко улыбнулся. – Ты всегда был справедлив ко мне, я у тебя учился мужеству, трудолюбию. Я во многом завидую тебе – например, твоему чувству юмора. Оно тебя так украшает… – Он обнял меня, «пободался», как мы называли это с ним раньше, а сказал, в сущности, страшное: «Ты сам не живешь и другим не даешь жить…»
– Костя, послушай, Костя, тебе пятнадцать лет, а ты говоришь как тридцатилетний. Может быть, ты знаешь, как надо нам жить?
– Если бы я знал, я не ушел бы из дома. По-моему, нам надо всем посоветоваться с бабушкой. Сесть как-нибудь и попросить: «Бабуль, научи нас жить!..» Кажется, я нашел сравнение: ты похож на жреца, служащего самому жестокому божеству… – И опять пободался со мной. – Вот ты какой престрашный, папуль! У! И никто лучше меня не знает, какой ты умный. Если мама учила меня быть добрым и держать вилку в левой руке, то ты научил меня думать и говорить… Поэтому я и ушел из дома.
Все мне было ясно, кроме одной детали. Я спросил:
– Может быть, ты все же знаешь, как надо жить?
Он приподнял меня, посадил на письменный стол, приговаривая:
– Вот какие мы хорошие, вот какие мы послушные, вот какие мы умные… Но не знаем, как жить! – Он забавно вытаращил свои восточные глаза. – Между прочим, школу мы закончим – это вас пусть не беспокоит!
– Значит, не вернешься домой?
– Да, папа!
Мне надо было выяснить еще один вопрос:
– Скажи, Костя, я давлю на окружающих?
– Па-па! «Давлю»! Ты соковыжималка, а не человек. Как только ты появляешься в комнате, в пианино сама собой звучит басовая струна… Мама мне всю жизнь объясняла, что это от твоей сосредоточенности. Фигушки! Ты напрасно стараешься казаться не тем, кто есть!
– Это мне надо объяснить, Костя!
– Пожалуйста. Тебе хочется играть в лапту, а ты вместо игры в лапту играешь во взрослые солдатики… Врать не буду: это не моя мысль и не моя фраза. Так сказал о тебе однажды здорово пьяный дядя Боря.
Я поднялся, я сказал:
– Правильно, живи отдельно… А теперь пошли в кухню. Может, нашакалим пельмени.
– А зачем шакалить? Я знаю, где лежат пельмени…
Этот щенок знал даже, где лежат черный перец и бутылочка с уксусом. Потом он объявил, что научит меня есть пельмени в майонезе – пальчики оближешь! Вообще у газовой плиты он себя чувствовал как за школьной партой. Он нацепил материнский фартук с цыплятами и сделался смешным до чрезвычайности. Я отсмеялся и сказал:
– Н-да! Сфера обслуживания занимает все большие интеллекты…
В это время в кухню вошла Вера, абсолютно спокойная и предельно устроенная. Лицо у нее было помято, она зевала, и у меня, выражаясь по-сибирски, «захолонуло в сердце». Что с Верой? Она приняла новый образ жизни сына или уже договорилась с ним о возвращении? Она сказала:
– Нужно положить в воду лавровый лист…
– Маман, протрите глазки. Там бушель лаврового листа,
Был ужин, был какой-то смешной разговор по поводу Валюшки, вернувшейся из школы то ли без передника, то ли без пальто. При виде Кости она показала ему язык и сказала:
– Блаженненький дурачок!
Я так и не узнал в тот день, что Костя, скрыв возраст, уже работает грузчиком в мебельном магазине, зарабатывает в среднем не меньше меня, живет на квартире интеллигентной бабули и собирается учиться на вечернем…
Никита Ваганов не мог без дрожи в руках видеть Коростылева – потому и прятал их в карманы; таким образом, за все тысячу и одну ночь в ожидании желанного финала он ни разу не обменялся с Коростылевым рукопожатием, чего первый заместитель редактора так и не заметил. Знал Коростылев все и – еще немножко! И, как ни странно, при всех этих достоинствах и преимуществах был и оставался на диво провинциальным. Это было видно по костюму, по манере ходить не по центру коридора, а по стенке. Наконец, никакая высшая и сверхвысшая школа не могла выбить из Андрея Коростылева грамотную речь: он употреблял такие словечки, что «ложить» казалось баловством, и слова-словечки отнюдь не были блестками забытой русской речи: такую жирную печать оставили детство, юность и отрочество Андрея Коростылева в провинциальном городе средней полосы России.
Не прошло и месяца, когда самые толковые журналисты «Зари» поняли, что и свою газету, то бишь «Зарю», первый заместитель хочет видеть провинциальной – край занавеса чуть-чуть приподнялся еще на первой беседе, которую Андрей Витальевич устроил в своем кабинете. Поначалу дело шло сверхнормально, так как первый заместитель коротко и точно определил международное положение: здорово чувствовалась Академия общественных наук, но речь была живой, образной; глухой провинциальщиной повеяло в то мгновение, когда речь пошла об освещении партийной жизни. Он, как прикованный цепью Прометей, все ходил вокруг да около действенности партийных собраний и проверки решений партийных собраний; когда же это кончилось, он вдруг сделался еще серьезнее, чем был, и безо всякой нужды заговорил о клубах и о клубной работе. Ох, эти клубы! Читатель, я думаю, помнит о клубной «мании» Коростылева…