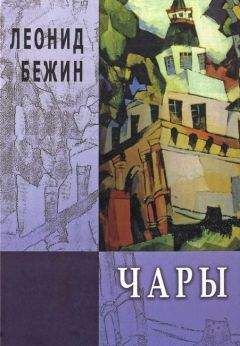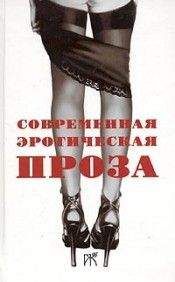Вот и мои попытки заключались в том, что я неловко приближался к отцу, сидевшему на диване с газетой, и заискивающе, подобострастно смотрел ему в глаза, почему-то считая этот взгляд исполненным особого значения и наиболее подходящим для выражения моих самых сокровенных и глубоко запрятанных чувств. Чувств, о которых нельзя сказать прямо, а можно лишь невзначай, окольным путем намекнуть. Намекнуть и тем самым загадать предмету этих чувств некую лукавую загадку, позволяющую неуклюже подсесть к нему, оттесняя в угол дивана, одеревенелой рукой погладить по плечу и с фальшивой, приторной улыбкой поцеловать в щеку. После того как я все это старательно и невозмутимо проделывал, отец окидывал меня удивленным взглядом, откладывал в сторону газету и — раз уж ему был подан пример такой трогательной и нежной любви — тоже обнимал меня за плечи, притягивал к себе и целовал в лоб. После этого нам обоим становилось неловко: отцу потому, что он не решался снова взять в руки газету и в то же время не знал, как ему вести себя дальше, а мне потому, что я чувствовал себя виноватым в неловкости, сконфуженности, растерянности отца и от этого впадал в еще большую растерянность. В конце концов, я не находил ничего лучшего, как снова погладить и поцеловать, а отец — посильнее обнять и притянуть к себе. При этом и в его руке появлялась некая одеревенелость, а во взгляде — заискивающее стремление показать, как он меня любит.
На Арбат в магазин игрушек
— Ты о чем-то хотел попросить? — тихонько спрашивал он, наклоняясь к моему уху и тем самым подчеркивая, что нас с ним объединяет секрет, который мы обязуемся хранить не столько ради самого секрета, сколько ради нашей любви друг к другу.
— Попросить? Тебя? — переспрашивал я, лихорадочно стараясь вспомнить свои опрометчивые слова и жесты, в которых могла содержаться подобная просьба.
— Говори, говори… Может быть, тебе что-нибудь купить? — Отец выделял голосом последнее слово, великодушно подставленное им под мое невысказанное желание. — Какой-нибудь пистолет, ружье или оловянных солдатиков? Что тебе больше нравится?
В предложенном мне наборе подарков смутно угадывались сороковые, совсем недавно перешедшие в пятидесятые.
— Нет, нет, не надо… У меня есть, — отказывался я, со всей безнадежностью чувствуя, что решительный отказ лишь подтверждает в глазах отца мое безвольное согласие.
— Ладно, договорились, — останавливал меня отец, подчеркивая этим, что с того момента, как он принял решение, ему не нужны ни мой отказ, ни мое согласие. — Завтра отведу тебя в магазин на Арбате, и ты сам выберешь себе игрушку. Самую лучшую. Какую захочешь.
После своих слов он еще раз целовал меня — на этот раз в макушку, аккуратно выстриженную ручной машинкой, и осторожно протягивал руку за газетой. Осторожно и слегка неуверенно — опасаясь обидеть меня и в то же время, чувствуя, что теперь он отчасти имеет на это право. Имеет, хотя и не пользуется им — не обижает, а ждет, когда я сам потихоньку слезу с дивана и дам ему возможность дочитать газету. Ведь мы же договорились завтра пойти на Арбат в магазин игрушек! Ведь договорились же — завтра, а сейчас он может спокойно дочитать. Вот только я слезу, и он спокойно — с сознанием своего полного права — развернет газету и дочитает ее до конца, до последней страницы, где печатают фельетоны, кроссворды и самые разные объявления. Вот только я слезу…
И тут я понимал, что его посулы и обещания есть на самом деле подкуп. Да, подкуп, шантаж, предложение о некоем безобидном предательстве — предательстве в духе пятидесятых, совершив которое, я уже никогда не сумею преодолеть барьера между отцом и мною. Не смогу преодолеть и, вместо того чтобы любить и жалеть, буду лишь неуклюже показывать свою любовь и жалость. Я понимал это, и мне становилось страшно, — страшно настолько, что хотелось истошно закричать: «Не надо мне никаких игрушек! Не надо! Не надо!» И я закричал бы, но рука отца уже тянулась за газетой, а я в растерянности смотрел на него и улыбался беспомощной, жалкой улыбкой.
— Значит, завтра, — уточнял он напоследок, тем самым внушая, что, несмотря на нетерпеливое стремление добраться до газеты, он продолжает помнить и о нашей договоренности. — Завтра ты выберешь себе игрушку. Хорошо?
— Хорошо, — безучастно отвечал я, останавливаясь перед ненавистным, непреодолимым барьером.
Миндалина припухла
Так в моем отношении к отцу возникла, обозначилась и стала причинять мне боль, словно распухшая миндалина, навязчивая экзистенция, рождавшая меж нами неуловимый холодок неловкости, отчуждения, взаимного неудобства. Да, миндалина припухла и мешает глотать — вот так же и нам с отцом словно бы что-то постоянно мешало. И если я с радостным криком бросался на шею матери, возвратившейся вечером с работы, а затем барахтался у нее на коленях, пока она снимала ботинки и переобувалась в домашние туфли, то к отцу я приближался слегка недоверчиво, опасливо и, может быть, даже неохотно. И когда он брал меня на руки и подбрасывал под потолок, я старательно и добросовестно смеялся, но одновременно с этим чувствовал странное желание заплакать.
Иногда мне казалось, что это желание появляется от слишком пылкой и восторженной любви к отцу, такому большому и сильному (как мне тогда казалось), способному меня так высоко — под самый потолок — подбросить, а затем поймать и поставить на пол. Сила и ловкость, которые я уг瘈дывал в руках отца или приписывал ему, а также его высокий — в несколько раз больше моего — рост вызывали во мне смешанное чувство подавленности, зависти и невозможности с ним сравняться, придавая моей любви нечто женственное, затаенное, близкое к запретному обожанию. Такое обожание выплескивается лишь в беспричинных слезах — вот почему и мне хотелось заплакать в тот самый момент, когда, подбрасываемый отцом, я с таким старанием выдавливал из себя натужный и притворный смех. Иногда же желание это я считал продолжением своей мстительной нелюбви к отцу, рождавшейся от неверия в то, что я его люблю, и словно заполнявшей пустую выемку, которая образовывалась на том месте, где должна была быть любовь.
«Дурак!»
Одним словом, в моем самолюбивом противоборстве с отцом, в моей восторженной любви к нему, смешанной со мстительной нелюбовью, обнажалось нечто ноздреватое, пористое, как пемза-вещество жизни. Именно его шероховатое прикосновение заставляло меня испуганно вздрогнуть, обидчиво нахмуриться и сердито отвернуться, когда отец незаметно подкрадывался ко мне сзади, обнимал за плечи, валтузил, мутузил и — шутки ради — просовывал палец за ворот моей рубашки и начинал щекотать, неприятно царапая, корябая мне шею грубо подстриженным ногтем.
— Хватит! Уйди! Не хочу! — кричал я, вырываясь из его цепких объятий. Но он и не собирался выпускать меня, охваченный упрямым азартом, и тогда я упавшим голосом — в предвидении неизбежных роковых последствий — тихо, почти неслышно, но от этого еще более внятно произносил: — Дурак!
Отец словно бы ждал этого слова.
— Что ты сказал? — спрашивал он, опуская руки, жалко улыбаясь и глядя на меня с укором человека, оскорбленного в своих лучших чувствах.
Я отказывался снова произнести то, что давало ему повод считать себя более оскорбленным и униженным, чем я.
— Что ты сказал? Повтори! — требовал он, настаивая на своем жертвенном праве еще раз услышать слово, столь болезненно уязвившее его самолюбие.
— Ничего… — Подчиняясь требованию отца, я соглашался отвечать не за слово, а за свой отказ его повторить.
— Нет, ты сказал. Повтори, пожалуйста. Я жду. — Отец повышал голос, добиваясь уважения в том, чтобы ему позволили до конца испытать чувство справедливой обиды.
Я снова отказывался и ничего не произносил.
— Вот видишь! Значит, ты сам понимаешь, что был неправ! Разве можно называть своих родителей такими словами! — Отец с облегчением вздыхал, радуясь, что выиграл сражение, которое вовсе не доказывало его превосходства в вооружении, стратегии и тактике.
После этого мы целую неделю бывали особенно предупредительны друг с другом, особенно отзывчивы на самые мелкие просьбы и усиленно старались не повторить того, чем была вызвана недавняя ссора. Старались так же, как поскользнувшийся на навощенном паркете старается не поскользнуться снова и осторожно — мелкими шажочками — продолжает свой путь. Вот и мы с отцом предупредительно мельчили свои шажки. Стоило мне появиться в комнате, и он всем своим видом показывал, что у него не осталось никаких намерений подкрасться ко мне сзади, просунуть палец за ворот рубашки и начать меня щекотать. Я же, обращаясь к нему с благопристойной миной воспитанного ребенка, всячески избегал опасных слов, заквашенных на начальной букве «д».