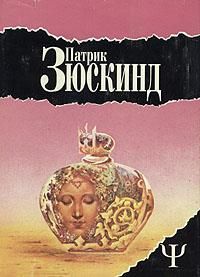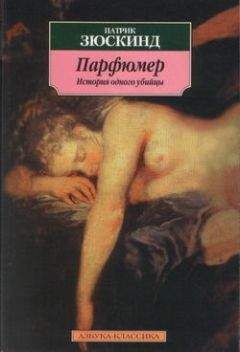Нет, хуже того. Он не хотел допустить мысли, что его противник играет до такой степени плохо. И еще хуже: почти до конца поединка он хотел верить в то, что далеко уступал в своем умении играть незнакомцу. Он по собственной воле поддался неодолимому сиянию самонадеянности, гениальности и юношеского нимфа этого выскочки. Поэтому он играл так чрезмерно осторожно. И еще кое-что: если совсем честно, Жан был вынужден признаться себе, что он восхищался незнакомцем, точно так же, как другие — мало того, он даже хотел, чтобы тот выиграл и наиболее эффектным и гениальным образом наконец преподнес ему, Жану, урок поражения, ждать которого столько лет ему уже надоело. Жан хотел, чтобы его освободили наконец от бремени быть самым сильным и выигрывать у всех, хотел, чтобы злобный народец зрителей, эта завистливая банда, получила свое удовлетворение, чтобы все успокоились, наконец…
Но потом, конечно же, он опять одержал победу. И эта победа была для него самой неприятной во всей его шахматной карьере, ибо, чтобы предотвратить ее, он на протяжении всей партии самоотрекался, и унижался, и складывал оружие перед самым презренным халтурщиком в мире.
Он не был человеком больших моральных заключений, этот Жан, местный шахматный корифей. Но одно ему было ясно, когда он брел домой с шахматной доской под мышкой и коробкой с фигурами в руке: что на самом деле он сегодня потерпел поражение, поражение, которое потому было таким ужасным и окончательным, что за него нельзя было взять реванш, как нельзя было реабилитироваться за него самой что ни на есть блестящей победой в будущем. И по сей причине он решил (а, надо сказать, он никогда до этого не был человеком больших решений) поставить на шахматах точку, раз и навсегда.
Впредь, как и все остальные пенсионеры, он будет играть в буль — безобидную, полную дружеского общения игру, предъявляющую к ее участникам меньше моральных требований.
Одной молодой женщине из Штутгарта, которая хорошо рисовала, один критик, не имевший в виду ничего плохого и хотевший ее поддержать, на первой ее выставке сказал:
— То, что вы делаете, талантливо и мило, однако вам еще не хватает глубины.
Молодая женщина не поняла, что имел в виду критик, и вскоре забыла его замечание. Но через день в газете появилась рецензия того же самого критика, в которой говорилось: «Молодая художница весьма даровита, и ее работы на первый взгляд довольно привлекательны; к сожалению, им не достает глубины».
Тут молодая женщина задумалась. Она начала просматривать свои рисунки и копаться в старых папках. Она пересмотрела все свои рисунки и также те, над которыми в настоящий момент работала. Потом она закрутила крышки на банках с тушью, вытерла перья и вышла подышать свежим воздухом.
В тот вечер она была приглашена в гости. Люди, казалось, выучили критику наизусть и то и дело говорили о большом таланте художницы и о привлекательности ее картин, с ходу бросавшейся в глаза. Но из шепотков на заднем плане и от тех, кто стоял к ней спиной, молодая женщина, прислушавшись повнимательнее, могла распознать:
— Глубины у нее нет. Вот в чем дело. Талант-то у нее имеется, а вот глубины, к сожалению, нет.
Всю следующую неделю молодая женщина ничего не рисовала. Она молча сидела в своей квартире, размышляла про себя и в голове ее неотступно кружила одна-единственная мысль, которая охватывала и проглатывала все остальные мысли, словно глубоководный спрут: «Почему у меня нет глубины?»
На вторую неделю женщина снова попробовала рисовать, но кроме неуклюжих набросков у нее ничего не вышло. Порой ей не удавался даже маленький штрих. Под конец она так сильно дрожала, что не могла больше окунуть перо в банку с тушью. Тогда она начала плакать и вскричала:
— Да, все правильно, у меня нет глубины!
На третью неделю она начала рассматривать тома по искусству, изучать работы других художников, старательно посещать галереи и музеи. Она читала книги по теории изобразительного искусства. Она пошла в книжный магазин и спросила у продавца самую глубокую книгу, которая имелась в его лавке. Она получила труд некоего Витгенштейна и не нашла ему никакого применения.
На выставке «500 лет европейскому рисунку» в городском музее она присоединилась к одному школьному классу, который вел по залам преподаватель художественного воспитания. Неожиданно, у одного из рисунков Леонардо да Винчи, она вышла вперед и спросила:
— Извините, вы не могли бы сказать мне, есть в этом рисунке глубина или нет.
Преподаватель усмехнулся ей в лицо и сказал:
— Если вы хотите шутить со мною шутки, уважаемая, то вам следует с утра вставать пораньше!
И класс от души расхохотался. А молодая женщина пошла домой и горько плакала.
Отныне молодая женщина делалась все более странной. Она едва покидала стены своего ателье и все равно не могла работать. Она принимала таблетки, чтобы дольше бодрствовать, и не знала, для чего ей нужно было бодрствовать дольше. И когда она уставала, то засыпала на своем стуле, потому что боялась ложиться в кровать, от страха перед глубиной сна. Она также начала пить и всю ночь оставляла невыключенным свет. Она больше не рисовала. Когда ей позвонил один антиквар из Берлина и попросил ее сделать для него несколько эскизов, она прокричала в трубку:
— Оставьте меня в покое! У меня нет глубины!
Время от времени она лепила что-то из пластелина, впрочем это были пустяки, ничего определенного. Она только запускала в пластилин кончики пальцев или скатывала из него маленькие шарики. Внешне она приходила в состояние запущенности. Она не следила больше за своей одеждой и не убирала в квартире.
Ее друзья беспокоились. Они говорили: «Нужно помочь ей, у нее сейчас полоса кризиса. Этот кризис или человеческого плана, или творческого; или же этот кризис — финансовый. В первом случае нам ничего не поделать, во втором случае ей надо выбираться из него самой, а в третьем — мы можем организовать для нее сбор средств, но это, пожалуй, будет ей неприятно».
И, таким образом, друзья ограничились тем, что стали приглашать ее, приглашать на обеды или на званые вечера. Она всегда отказывалась, обосновывая это обилием работы. Однако она вовсе не работала, а только сидела в своей комнате, смотрела перед собой и мяла пластилин.
Однажды она находилась сама с собой в состоянии такого отчаяния, что все-таки приняла одно приглашение. Один молодой человек, которому она нравилась, хотел по окончании вечеринки отвезти ее домой, чтобы остаться у нее с известной целью. Она сказала, что, пожалуйста, он может сделать это, поскольку и он ей нравится; правда, ему придется быть готовым к тому, что у нее нет глубины. Услышав это, молодой человек решил воздержаться от своих намерений.
Молодая женщина, которая когда-то так хорошо рисовала, опускалась теперь не по дням, а по часам. Она больше никуда не выходила, она больше никого у себя не принимала, из-за недостатка движения она располнела, от алкоголя и таблеток она старела с необыкновенной быстротой. Ее квартира начала гнить, от нее самой пахло заплесневелым.
В свое время она унаследовала тридцать тысяч марок. На них она жила три года. Как-то раз в ту пору она совершила путешествие в Неаполь, никому не известно, при каких обстоятельствах. Тот, кто заговаривал с ней, слышал в ответ лишь неразборчивое бормотание.
Когда деньги закончились, женщина разрезала и продырявила все свои рисунки, поднялась на телевизионную башню и прыгнула вниз со 139-метровой высоты. Но так как в тот день дул сильный ветер, она разбилась не на асфальтовой площадке у подножия башни, а ее отнесло через все овсяное поле к самой кромке леса, где бросило на верхушки елей. Несмотря на это, она тут же, на месте, скончалась.
Бульварная пресса с благодарностью подхватила этот случай. Самоубийство, как таковое, интересная траектория полета, тот факт, что речь здесь шла о художнице, подававшей некогда большие надежды, и к тому же имевшей привлекательную внешность, — все это обладало высокой информативной ценностью. Состояние ее квартиры оказалось таким катастрофическим, что фотографам удалось сделать в ней живописные снимки: тысячи опустошенных бутылок, повсюду следы разрушения, порванные в клочья картины, комки пластилина на стенах и даже испражнения по углам комнаты! Газета решилась еще на один разворот и на новое сообщение на третьей странице.
В литературном приложении была помещена заметка упомянутого вначале критика, в которой он выражал свою полную озадаченность в связи с тем, что молодая женщина таким ужасным образом покончила с собой. «Снова и снова, — писал он, — это обрушивается на нас, живых, страшным событием — когда мы становимся невольными свидетелями того, как молодой, талантливый человек не находит в себе сил утвердиться в своих кругах. Одной государственной поддержки и частной инициативы явно недостаточно там, где речь идет, в первую очередь, об опеке в человеческой сфере и о разумном творческом содействии в художественном секторе. Правда, тут следует сказать, что зародыш такого трагического конца в данном случае был, скорее всего, заложен все-таки в индивидуальном. Ибо не смотрит ли на нас уже с ее первых, еще кажущихся наивными работ та пугающая раздвоенность, видимая уже по своенравной, направленной специально на достижение такого эффекта, технике смешивания тонов, тот закрученный внутрь, спиралевидно вгрызающийся и одновременно до предела насыщенный эмоциями, но явно тщетный протест творца-создателя против своего собственного темного «я»? Та губительная, мне почти хочется сказать, беспощадная тяга к глубине?»