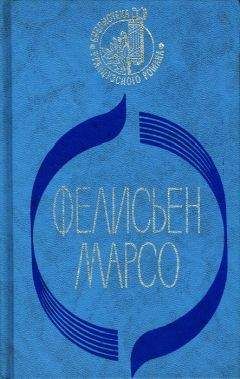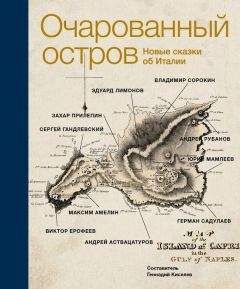На следующий день, приблизительно пол-одиннадцатого, Андрасси осторожно приоткрыл дверь Форстетнера. Все было тихо. Под противомоскитной сеткой — кровать-пароход из красного дерева плыла, плыла, все еще плыла по морю сновидений. Три минуты спустя Андрасси был уже на дороге. Перед ним витал один образ, образ улыбающейся девушки, девушки с письмом, девушки в красном шерстяном джемпере. У Андрасси было хорошее настроение. Вчерашний вечер помог ему избавиться от последних смутных угрызений совести, которые у него еще сохранялись в связи со странным условием Форстетнера. Никаких женщин! Никаких женщин! На этом-то острове! Где каждый делает, что хочет! Нет уж, дудки! Андрасси на мякине не проведешь. Никаких женщин! Еще чего! Причем сегодня же, господин швейцарец. За дело! Капри — остров небольшой. Побродив немного, он непременно найдет ее. Меньше чем за сутки.
Подходя к площади, он услышал за спиной:
— Адвокат!
Черт возьми, это был Рамполло-отец. Надо было попытаться отделаться от него.
— Адвокат!
Андрасси проговорился, что у него есть диплом доктора юридических наук. И вот теперь, питая, как все итальянцы, пристрастие к званиям, титулам, агент по недвижимости называл его адвокатом.
— Вы ищете кого-нибудь?
Андрасси на секунду растерялся. Это же ведь ее отец? Было бы так легко…
— Нет, нет…
У коренных жителей острова загар обычно бывает всех оттенков: от розового до красно-коричневого цвета.
Этому способствует не только солнце, но и морской ветер. Но Рамполло был неаполитанцем. В богатой гамме тонов его лица преобладал коричневый цвет, переходящий местами в желтый, а на шее — в темно-коричневый, на скулах присутствовала еще веселая оранжевая нотка, очевидно, из-за плохой печени.
Нос пирата, глаза куртизанки, бархатистые, черные, как уголь. Богатая жестикуляция.
— Мое личное мнение…
Рука на груди.
— Я выскажу его вам совершенно искренно…
Ладонь и голова выпрямляются одновременно, как два подъемных моста. Мне не надо твоих даров, Артаксеркс.
— Ведь на всем острове не найдется ни одной виллы, буквально ни одной…
Указательный палец поднят вверх, вибрирует, словно ему было трудно сдерживать понятие уникальности, которое его буквально распирало.
— Нет ни одной виллы, которая могла бы сравниться с виллой миссис Уотсон.
Андрасси продолжал смотреть по сторонам Рамполло, всякий раз повторяя его движение, постоянно оказывался перед ним, и Андрасси постоянно видел перед собой пиратское лицо с оранжевой подсветкой и угольно — черные глаза — так ведет себя верный, но назойливый пес или обезумевшая от любви женщина, которую избегает любовник.
— И зачем я все это вам говорю?
Рамполло страстно добивался ответа, стоя перед ним с лицом, напряженным, как тарелка.
— Chi me lo fa fare? Кто же меня заставляет делать это?
Его соединенные вместе пальцы правой руки били по подбородку, словно метроном в его самой низкой точке.
— Кто?
Это становилось утомительным.
— Я скажу об этом господину Форстетнеру, — весело произнес Андрасси. — Я скажу.
Решительным шагом, как человек, который знает, куда он идет, Андрасси спустился по улице, которую могли бы назвать островной улицей Мира — она была короткая, но широкая, с магазинами, заполненная народом. Женщины в брюках, какой-то мужчина в рубашке цветочками, чистильщик обуви, заведение которого имело форму самолета, поставленного прямо на землю, старая дама, отвешивающая тумаки мальчишке, который в конце концов ответил пинком, перенесенным ею с презрительным выражением лица, хотя было видно, что ей больно. Маркиза Сан-Джованни, выходившая в этот момент из магазина, обернулась на пороге, чтобы высказать последнее пожелание.
— Здравствуйте, Андрасси, у вас вид немного…
— У меня, мадам?
Но ни улыбки, ни взгляда. И уже никого нет. Андрасси повернул налево и пошел по улице, где вчера вечером немец подражал корнет-а-пистону. Справа — длинный треугольник моря. Но никого нет. Только кучки людей. Но ни улыбки, ни взгляда, ни красного шерстяного джемпера. Он повернул обратно, направился к площади. Никого. Только Рамполло стоял у входа на площадь, как смотритель шлюза у узкого входа в гавань.
Андрасси хлопнул себя по лбу, как забывший что — то человек, и опять пошел вниз по той же улице. Немного смущенный. (А почему собственно? Зеваки ходят по этой улице десять раз на день. Но такова особенность любви — внушать новые сомнения, предрасполагать к особой тактичности.) Так что он пошел, немного смущенный, сначала по той же улице, потом свернул в переулок направо. Он рассчитывал таким образом попасть опять на площадь, но очутился в лабиринте тесных, плохо вымощенных улочек, где он бродил между серыми и сухими стенами, из-за которых иногда выглядывали цветы или апельсиновое дерево (и среди темной листвы — апельсин, похожий на лицо любви). Или какой-нибудь дом, какой-нибудь вход, двор, выложенный плиткой ярко-зеленого цвета или цвета лимона. Но никого. В самом деле, никого. Улочки извивались, снова и снова меняли направление. Все это походило на молчаливое объятие, на сон, в котором умираешь, на нечто такое, что медленно складывается, раскрывается, вновь закрывается.
Андрасси проклинал все на свете. Улочка, другая улочка. Выйдет ли он когда-нибудь из них? Он прошел под один из сводов. От побеленных известью стен исходил кисловатый запах. Это была уже не Италия, а какая-то алжирская или тунисская касба. За железной решетчатой калиткой открывался вид на двор, выложенный плиткой, таинственный, как колодец, свежий, будто только что раскрытый гранат, двор, уставленный глиняными кувшинами, с пенившимися в них темно-зелеными листьями каких-то экзотических растений, на которые явно никогда не попадало солнце, — такого они были зеленого цвета, встречающегося разве что в сердцевине некоторых луковичных растений или на сгибах корней. И ничего. Никого. Где-то далеко — удары молота…
Затем слева внезапно открылась стена и вновь появился Капри, как комната, в которой открыли ставни: море, пароход, гудки такси, радио со своим музыкальным винегретом и на террасе — официант в белой куртке, расставлявший столы.
Затем улочка снова изогнулась дугой и закончилась перед церковью. С высоты церковных ступеней Андрасси еще раз быстро осмотрел площадь. Люди в голубом, люди в желтом, жесты, объяснения, трижды пустые, но искренние, страстные, женщина с тремя рядами жемчуга на рыбацкой блузе, глухонемой в красном колпаке, старый Танненфурт и Висконти-Пененна, приветствующие друг друга, один, щелкнув каблуками, другой — неестественно выпятив вперед негнущийся бюст и неподвижное бритое лицо. Но где она? Она! Ее не было! Ни улыбки, ни взгляда.
Андрасси пересек площадь, углубился в переулок, вернулся, все очень быстро, он был единственным спешащим человеком в этой толпе, вяло передвигающей ноги. Он спешил, неся в себе беспокойство и озабоченность, написанные на его лице. Кто-то схватил его за локоть.
— А я было подумал, что мимо меня лошадь какая — то мчится, или олень, или локомотив. Ничего подобного: идет мой друг Андрасси.
Из-за столов одной из террас появился Станнеке Вос.
— Ты два раза прошел рядом и не заметил меня.
Вос уже испытал влияние среды: этот голландец, этот сын Фризы вовсю жестикулировал, вздымал вверх указательный палец и размахивал большим пальцем.
— Риф, раф, руф мимо меня, туда-сюда, прямо сквозняк, да и только. Ты ищешь бордель? Нет тут борделя, старина. Выпьешь что-нибудь?
— Нет, — отказался Андрасси. — Мне уже пора возвращаться.
— Нет. Ты только посмотри на эти груди, — указал Вос, провожая взглядом прошедшую мимо них женщину с задорно оттопыривающейся блузкой.
— До свидания, — попрощался Андрасси.
А на площади продолжались беседы и споры, отпускались бессмысленные замечания и вялые комментарии, били крылом незначительные страсти, тешилось пустое тщеславие, дотлевали какие-то жизни, которым не суждено было оставить на земле следа, прелюбодействовал на бедре датчанки взгляд римлянина, возникали сомнительные планы, самоутверждались «bah», «та» и «che», составляющие основу любого итальянского разговора, затевались дела, как правило, переносимые на завтра. Какая-то женщина устало тащила за собой, как на буксире, мальчишку. Какой-то тип, подстриженный в кружок, размахивал тростью, пытаясь проиллюстрировать свою мысль. Вот, трость перед ним — это одно, трость справа — другое, а слева — нечто совсем иное. Однако не все было так просто. Собеседник выражал несогласие. Из церкви вышел декан в сдвинутой на самый затылок шляпе и с прижатой к груди палкой. У кого-то было написано на лицах, что им хочется есть и что у них выделяется слюна. Через площадь в этот момент переходили, держась рядышком, мужчина и женщина, очень благоразумного вида, похожие на людей, которые только что случайно встретились и решили пройти вместе несколько шагов.