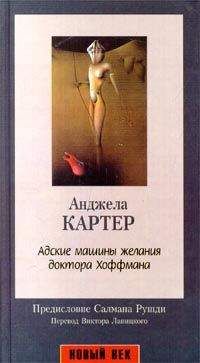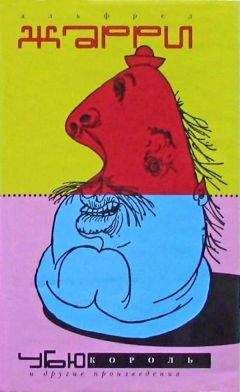Посол: Зато мы населили город аналогиями.
Министр: Хотелось бы узнать, с какой целью.
Посол: Ради свободы, Министр.
Министр: Распрекрасненькое понятие!
Посол: Я, конечно же, и не думал, что этот ответ вас удовлетворит. Ну а если сказать, что мы занимаемся раскрытием бесконечной потенциальности явлений?
Министр: Я предложил бы вам перенести свою деятельность в другой район.
(Посол улыбнулся и отсек от камбалы полупрозрачный ломтик.)
Министр: Не так давно я начал понимать, что Доктор намеревается подорвать и уничтожить все остатки социальной материи моей страны — одним из прекраснейших интеллектуальных украшений которой он некогда был.
Посол: Вы говорите о нем так, будто он — какая-то розочка!
(Министр проигнорировал этот кроткий упрек.)
Министр: Могу единственно заключить, что движет им чистая злоба.
Посол: Что, безумный ученый, мстительно пестующий чуму в своих пробирках? Будь его мотивы так просты, уверяю вас, к настоящему моменту он бы уже полностью все уничтожил.
(Министр отодвинул тарелку. Я понял, что он готов разразиться идущей от самого сердца тирадой.)
Министр: Вчера среди фейерверка исчез, растворился собор. Полагаю, что свойственный почти всем ребячий восторг при виде запускаемых ракет, вращающихся колес св. Екатерины, разноцветных звезд и метеоров был моим самым сильным чувством, поскольку собор являл собой шедевр уравновешенности. И удостоился он самого вульгарного погребального костра, какой только можно было изобрести. А ведь две сотни лет нависал он над нашим городом, словно монастырский каменный ангел. Время, рабское время, которое вы презираете, было достаточно свободным, чтобы на равных сотрудничать с архитектором; тридцать лет понадобилось каменщикам, чтобы возвести собор, и с каждым прошедшим годом невидимая формовка времени углубляла волнующую красоту его парящих линий. Время скрыто присутствовало в его материи. Сам я не религиозен, но тем не менее собор возвышался для меня неким символом самого духа нашего города. Это был настоящий Meisterwerke…[6]
Посол: Вот мы и спалили его с фейерверком…
(Министр проигнорировал его.)
Министр: … и его величие, возраставшее год от года, — ибо он все полнее срастался с самим временем, — заложено было в него искусностью архитекторов. Он был утонченной иллюзией, и тем не менее его симметрия выражала симметрию породившего его общества. Город и, шире, государство — это тоже Meisterwerke, шедевр подобного же рода. Структура социума…
(При этих словах Посол приподнял свои прекрасные брови и постучал накрашенными ногтями себе по зубам, словно забавляясь своей укоризной по адресу подобного жаргона.)
Министр (непреклонно): Структура социума — это величайшее произведение искусства, на которое способен человек. Как величайшее проявление искусства она совершенно симметрична. Она обладает архитектоникой музыкального произведения, симметрией, налагаемой на нее для того, чтобы получила некое разрешение игра напряжений, которые иначе взорвали бы порядок, но без которых всякий порядок лишен жизни. В этой безмятежной абстрактной гармонии все движется с торжественностью абсолютно предсказуемого и…
(Здесь молодой человек нетерпеливо его перебил.)
Посол: Побойтесь абстракций!
(Он раздраженно проглотил последние крохи рыбы и замолчал, дожидаясь, пока официант не заменит тарелки на — к моему удовольствию и удивлению — tournedos Rossini.[7] Потом отрывисто отказался от pommes allumettes.[8] Когда он заговорил вновь, голос его приобрел более глубокую окраску.)
Посол: Наше фундаментальное отличие кроется в философии, Министр. Для нас мир существует только в качестве среды, в которой мы выполняем свои желания. Физически сам мир, действительный — если вам угодно, реальный — мир состоит из податливой глины; но столь же уступчива и его метафизическая структура.
Министр: Метафизика меня не касается.
(С волос Посла внезапно сорвался сноп голубых огней, и, вдруг представ Шарлоттой Корде, он наставил на Министра кинжал.)
Посол: Д-р Хоффман сделает-таки метафизику вашим занятием! f
(Министр флегматично разрезал мясо.)
Министр: Не думаю.
(Слова падали у него изо рта так тяжеловесно, что я был удивлен, как это они не проваливаются сквозь стол. Меня глубоко впечатлила его торжественная серьезность — и даже охладила тот энтузиазм, который охватил было меня, когда я выковыривал черную жемчужину трюфеля из своего клинышка паштета, — ибо я впервые пережил всю силу абсолютного отрицания. Откровенно откликнулся на эту перемену тона и Посол. Он мгновенно перестал выглядеть этаким ангелом-мстителем, но также стал и менее безличным.)
Посол: Пожалуйста, назовите свою цену. Доктор с радостью вас купит.
Министр: Нет.
Посол: Позвольте мне предложить пробный вариант… пять провинций; четыре системы общественного транспорта; три порта; две метрополии и целиком гражданское управление.
Министр: Нет.
Посол: Доктор готов пойти и дальше.
Министр: НЕТ!
(Посол пожал плечами, и мы продолжили нашу трапезу, пока не доели деликатесное мясо и не приступили к салату. Мы пили красное вино. Кожа на горле Посла казалась столь ослепительно утонченной, что сквозь нее было отлично видно, как рубиновый отблеск бургундского стекал с каждым глотком по его пищеводу.)
Посол: Кампания Доктора находится в данный момент на предварительной стадии, и тем не менее ваш город уже превращен в место без времени, вне мира рассудка.
Министр: Единственное, чего он достиг, — нашел какие-то способы околдовывать разум. Он лишь вызвал решительную приостановку в функционировании здорового недоверия. Как на заре кинематографа — все прыгают на экран, чтобы схватить рукой голую леди в ванной!
Посол: И тем не менее на самом-то деле их пальцы ощущают плоть.
Министр: Они в это верят. Но касаются они лишь овеществленной тени.
Посол: Что за изумительное определение плоти! Вы знаете, Министр, я — всего-навсего овеществленная тень, но, если вы порежете мне, скажем, руку, из нее потечет кровь. Коснитесь меня, я трепещу!
(Я определенно никогда не видывал призрака, который бы выглядел более мерцающе-нереальным, чем Посол в этот момент, — или же более откровенно пронизываемого эротическим трепетом. Министр, однако, рассмеялся.)
Министр: Реальны вы или нет, я по крайней мере знаю наверняка, что вы не мое изобретение.
Посол: Откуда же?
Министр: У меня не хватило бы на это воображения.
(Теперь пришла пора рассмеяться Послу; но вскоре он замолк и как бы прислушался на мгновение-другое к неслышному голосу. Ребяческая уловка, но сработала она на славу.)
Посол: Доктор готов повысить ставку на четыре оперных театра и города — Рим, Флоренцию и Дрезден до пожара. Ну и чтобы уж наверняка, добавим еще Иоганна Себастьяна Баха — вам в качестве Kapellmeister'a.[9]
Министр (раскрепощенно): Еще чего! Когда у нас вовсю развернута программа контрмер!
Посол: Ну да, конечно. Мы с заметным интересом следим за развитием вашего электронного гарема.
(До сих пор я никогда не думал о компьютерном центре Министра как об электронном гареме. Аналогия показалась мне восхитительной. Но Министр прикусил губу.)
Министр: Как?
(Посол оставил вопрос без внимания.)
Посол: Сейчас вы находитесь в процессе сведения в таблицы всех предметов, на которые вам удастся наложить руку. Во имя святой симметрии вы напяливаете на них смирительные рубашки и вешаете на них — о Боже! — до чего занудные ярлыки. Ваши механические проститутки приветствуют своих клиентов, лопоча невесть что на совершенно чуждом всему человеческому языке, пока вы, мадам, подрабатываете на стороне абортами. Вы убиваете воображение прямо во чреве, Министр.
Министр: Кто-то должен накладывать ограничения. Если мне ставят в вину аборты, в таком случае ваш хозяин — фальшивомонетчик. Он завалил нас поддельной валютой — фальшивыми явлениями.
Посол: Вы, кажется, рассматриваете иконографические объекты — или, скажем, символически функционирующие утверждения, — передаваемые вам нами, как вредоносный арсенал, чреватый пагубными последствиями для человеческой расы, за микрокосм которой принимаете этот город?