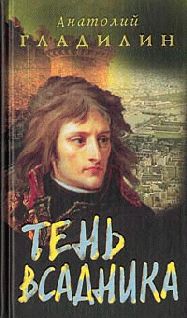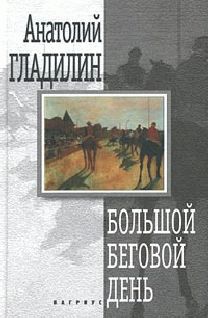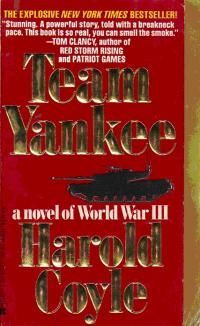Полковник, служивший еще в королевской гвардии, делал мне неслыханный подарок - пять недель вольной жизни! - а я, бестолочь, упрямился...
Казначей протянул мне пачку банкнот. Я вылупил глаза.
- Мой дорогой Готар, - рассмеялся казначей, - нам перевели ваше жалованье за те полгода, что вы провалялись в госпитале. Не думайте, что это большие деньги. Нет таких денег, которые нельзя истратить в Париже. Сейчас все изменилось, дельцы и спекулянты наживают огромные состояния, швыряют золото налево и направо, цены растут. Но у меня есть адрес приличного дешевого отеля на улице Короля Сицилии. И купите себе гражданскую одежду.
Мои личные вещи уместились в тощем бауле. Шинель я оставил в казарме. В лавчонке на Сан-Антуан примерил темный широкий плащ-накидку. Пока достаточно. Вот с чем я решил не расставаться, так это с саблей. Под плащом ее не видно, а мне спокойнее. Ведь по сведениям той же казармы, в городе не только танцевали...
Хозяин гостиницы "Сгоревшая мельница" и вправду брал недорого. Мог бы и ничего не брать, ибо номер оказался копией моей комнаты в казарме: продавленная кушетка, колченогий стул и тумбочка, всхлипывающий деревянный шкаф. Одна лишь новация - на стенке, рядом с окошком с грязными стеклами, висело круглое зеркало. Оттуда выглянул незнакомец, коротко, по-армейски стриженный, с впалыми щеками и очень недобрыми глазами. Я подумал, что такого человека обойдут своим вниманием и парижские красотки, и парижские грабители.
Первая гражданская ночь прошла тревожно. В казарме после отбоя все дрыхнут, как сурки, боятся упустить драгоценные минуты сна, а тут в коридоре шаги, громкие голоса, женский визг... Потом, когда все утихомирились, я услышал за стеной плач. Женщина плакала, стонала, всхлипывала. Перемежалось это с мужским бормотанием. Он ее бил, злодей? Я собрался было одеться, достать саблю и спасать бедняжку, но вдруг женщина начала смеяться... Вот и пойми их, штатских.
Черт бы их всех побрал! Надо жить, как привык, по казарменному расписанию и уставать за день так, чтобы валиться в кровать и засыпать беспробудным сном младенца.
Сказано - сделано. Я гулял по улицам, методично обходя квартал за кварталом, пока ноги меня держали. Вечером ужинал в соседней харчевне "Жареный петух" и читал газеты. И такое времяпрепровождение доставляло мне удовольствие, ибо каждую минуту я был готов к тому, что вид какого-то дома, таверны, булочной или хотя бы строчка в газете волшебной искрой озарит мой мозг и я вспомню свою жизнь.
Поиски прошлого - увлекательное занятие. Ведь что я знал про себя? В досье, которое прислали в полк вместе с моим назначением, сообщалось: "Жером Готар родился 6 декабря 1768 года в Марселе, окончил в Арле офицерскую кавалерийскую школу, участвовал в таких-то боях, тяжело ранен третьего мессидора 1794 года при форсировании Самбры, представлен к капитанскому званию в рапорте полковника Бернадота от 10 мессидора, представление утверждено военной коллегией 13 брюмера. Жером Готар не женат, адреса его родственников не имеем. Несмотря на частичную потерю памяти, пригоден к строевой службе".
Где мои родители? Кто мои родители? Живы ли они?
"Адреса его родственников не имеем".
...На Марсовом поле цвели белые и розовые каштаны. Мне нравились розовые. Я медленно брел по аллее, любуясь розовым пухом на ветках. Стоп, сказал я себе, никто мне не говорил, что эти деревья называются каштанами, а я уверен - это каштаны, и мне нравятся розовые. Значит, память постепенно возвращается, значит, правы были врачи, утверждая, что все восстановится.
У меня был уникальный в медицине случай. Очнувшись после ранения и контузии в госпитале, я не мог вспомнить своего имени, но мог абзацами цитировать военный устав. Я помнил все, связанное с армией, и начисто забыл свою жизнь на гражданке. Диагноз врачей гласил: "Нервные центры мозга не затронуты, травма психическая, годен к строевой службе".
Что ж, врачам виднее.
...В Пале-Руаяле играли уличные оркестры. Я фланировал в разнаряженной толпе, наблюдал, как танцуют. Фокусники показывали трюки с картами. Пожиратель огня выпускал изо рта пламя. Торговки сновали по саду с лотками. Горячие пирожки мигом раскупались.
Молодежь веселилась.
Молодежь? Дамы и господа примерно моего возраста. Но что общего было между ними и мной? Я чувствовал себя пришельцем из другого мира. Мира, где не выделывают кренделя ногами под музыку, не хватают прилюдно женщин за задницу, не горланят фальшивыми голосами: "Девчонки Ла-Рошели все слабы на передок". Может, я тоже был таким, скакал резвым козликом? Нет уж, увольте! Наверно, изначально был создан только как "годный к строевой службе".
...Приближаясь к своей гостинице, я услышал звуки шарманки. У дверей таверны слепой нищий крутил ручку механического ящика и пел:
Жанна Мари, не жди своего милого.
Твой милый в земле лежит,
Над ним трава растет,
Ее щиплют козы и коровы...
Я остановился. Что-то шевельнулось в моей памяти. Как будто в темной комнате, растопырив руки, я ищу что-то... Не нашел. Кинул в старую солдатскую фуражку монету.
* * *
Следующий день я дисциплинированно маршировал по северу Парижа, а потом, с устатку, окопался в кофейне на улице Монмартра. Вдруг неожиданная атака неприятеля опрокинула мои боевые порядки. Поясняю диспозицию. Рисую схему.
"Я" обвел в кружок, ибо держу круговую оборону. Стрелка показывает направление удара противника. Когда я рисую схемы офицерам эскадрона, то стрелки на моих схемах - по бокам. Я учу взводных и ротных, что ни один дурак не попрет в лоб, будут обходить с флангов.
А тут - нагло, в лобешник!
Еще раз поясняю диспозицию: к моему столику подсела рыжая девица и, улыбаясь, спросила:
- Кавалер, угостите стаканчиком красного?
Характеристика противника: из разряда легкой кавалерии, мастерица, опрятно одетая. Специалисты определили бы как изящную и стройную.
На мой взгляд - мало там заманчивых женских выпуклостей. Уж больно худа. Но смешные веснушки на носу придают шарм. Словом, на любителя. Отбиться можно.
Как же я отбивался? Спешил эскадрон и открыл прицельный огонь? Иронично заметил, что приличные девушки к чужим столикам не подходят? Гордо заявил, что я из другого мира и годен лишь к строевой службе?
Куда там! Капитана Жерома Готара бросило в жар, он что-то промычал, промямлил и не спешил эскадрон, а спешно заказал бутылку бордо.
В войсках полнейшая паника. О чем вести разговор? Однако девица-мастерица сама выручила. Однажды раскрыв рот, она его уж не закрывала.
Мне популярно растолковали, что мужчины нынче жмоты, норовят угощать вином в разлив, и поди проверь качество вина; все кругом потеряли стыд и совесть, в кофейнях в винные бочки подливают воду, ей подружка рассказывала, а Софи прислуживает у стойки, марочные бутылки, конечно, стоят дороже, зато без обмана, впрочем, год назад вообще ничего не было, люди давились в очередях за хлебом, за углем, за мылом, теперь в лавках товару до потолка, и кому понадобился якобинский террор, слава Богу, что Робеспьера отправили к дьяволу, жаль только, что он не успел отрубить головы тем, кто разбавляет вино водой...
Я спросил, не хочет ли... - как? Одаль? рад знакомству! - не хочет ли Одиль поужинать? Одиль авторитетно заверила, что от дармовой еды никто не отказывается, хотя она, Одиль, не из тех, кто потерял стыд и совесть, чтоб я не беспокоился.
Смысл последней фразы я понял, когда Одиль привела меня в свою мансарду. С неимоверной быстротой она разделась и юркнула в постель.
- Ну, иди же...
Идти куда? Эх, сейчас бы на маневры с эскадроном! Привычно и спокойно...
Я снял плащ, отстегнул саблю.
- Так и думала, военный или полицейский, - прокомментировала Одиль. Взгляд строгий.
Сумерки, льющиеся из окна, помогли мне преодолеть робость. Я скинул одежду.
- Что ты лежишь, как бревно? В атаку, офицер!
- Я был ранен, я не знаю, - забормотал я в замешательстве, но оказался в умелых руках, и скоро подо мной попискивало что-то мягкое, теплое. На улице зажгли фонарь, окно чуть освещало мансарду, я заметил, что Одиль лежит с закрытыми глазами, а на лице довольная гримаса. "Давай, офицер, работай", требовала Одиль, и я исправно работал, здорово разогрелся. Вообще, по здравом размышлении, это не самая тяжелая работа, бывает и похуже... Весьма приятная работа... Что же дальше? И вдруг - ой-ой-ой - я не удержался, из меня потекло.
Одиль вскрикнула и как будто потеряла сознание.
Какой конфуз!
Какой позор!
Одеться и бежать от стыда!
Но так поступают жалкие трусы. Надо хотя бы извиниться...
Одиль открыла глаза. Я извинился. Одиль не поняла. А когда поняла, начала хохотать, как сумасшедшая:
- Это же и есть любовь!
Это любовь? Я полагал...
Ночь прошла под знаком ликвидации моей половой безграмотности.