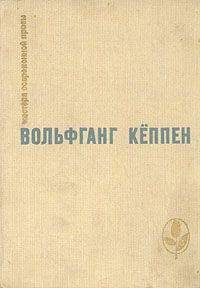Подошел первый троллейбус. Стоявшие в очереди втискивались в дверь, а Кородин отошел назад, подчеркивая свою скромность и готовность к самоуничижению, хотя, по правде говоря, ему были неприятны (греховное чувство) эти спешащие, борющиеся за кусок хлеба люди. И вот этот воз повез людей к зданию бундестага, к министерствам, к бесчисленному множеству учреждений, и отряды секретарш, армия служащих, роты чиновников средней руки набились в него, как сельди в бочку, рыбы одного улова. Эмигранты из Берлина, эмигранты из Франкфурта, эмигранты из пещер «Волчьего логова», они странствовали вместе с учреждениями, подшитые к бумагам, их дюжинами втискивали в квартиры новых блочных домов; чуткие стены «два отделяли их кровати от кроватей соседей, за ними всегда наблюдали, они никогда не оставались одни, их всегда подслушивали, и они сами всегда подслушивали, кто пришел в гостя в угловую комнату, о чем говорили (не обо мне ли?), они выведывали, кто ел лук, кто моется так поздно в ванной, фрейлейн Ирмгард, она моется хлорофилловым мылом, видно, это ей необходимо, кто, причесываясь, засорил волосами раковину, кто вытирался моим полотенцем; раздраженные, угрюмые, унылые, обремененные долгами, разлученные со своими семьями, они находили утешение на стороне, но не так уж часто, а кроме того, к вечеру они слишком уставали, выбивались из сил; они печатали на машинке законы, надрывались на сверхурочной работе, жертвовали собой ради шефа, которого ненавидели, за которым подсматривали, которого подсиживали, которому писали анонимные письма, для которого подогревали кофе, ставили цветы на подоконник; они посылали домой гордые письма и бледные фотографии, изображавшие их в саду министерства, или маленькие снимочки „лейкой“, которые шеф щелкал прямо в бюро, ведь они работали при правительстве, они управляли Германией. Кородин, вспомнив, что он еще не молился, решил выскользнуть из общего потока и пройтись немного пешком.
В это утро Кетенхейве не заходил в свою квартиру в боннском депутатском гетто, она была для него лишь pied-a-terre[7], не снискавшим любви, тесным кукольным домиком, завтра, дети, что-то будет, завтра радость к нам придет, что ему там делать? Все необходимое он нес в своем портфеле. Но даже это было обременительным грузом во время странствий. Кетенхейве тоже пренебрег троллейбусом.
На Мюнстерплац Кетенхейве встретил скромника Кородина. Тот уже успел помолиться святому Кассию и святому Флорентию, покровителям здешних мест, он покаялся им в грехе высокомерия, благодарю тебя, господи, что я не такой, как эти люди, и сам отпустил себе на время, на сегодня, все свои грехи. Кородин снова смутился, потому что Кетенхейве видел, как он выходил из собора. Неужели святые остались недовольны молитвой депутата и наказали Кородина встречей с Кетенхейве? А может, эта встреча являла чудесную волю провидения, знак особой милости?
Считалось странным, если два депутата, принадлежавшие к враждующим партиям, пусть даже они работали в одних и тех же комитетах и иногда поддерживали там друг друга, вместе шли по улице. Показаться с депутатом другой партии значило испортить свою репутацию, а у партийных лидеров подобная картина вызывала такое отвращение, как если бы кто-нибудь из их стада открыто прогуливался с педерастом, бесстыдно демонстрируя свою извращенность. В каждом случайном разговоре, может быть просто о плохой погоде или о плохом самочувствии, о болях в сердце, молва подозревала заговор, измену партийным интересам, еретичество и попытку свергнуть канцлера. Кроме того, весь город кишел журналистами, и снимок мирно гулявших мог появиться в понедельник в «Шпигеле» и привести к бурным раздорам. Все это Кородин прекрасно понимал, но Кетенхейве (Кородин чуть было не сказал «черт его побери») был ему симпатичен, поэтому он и относился к нему иногда прямо-таки с ненавистью, а не просто с обычным холодком, как к представителю враждебной партии; Кородин испытывал странное чувство, и его нельзя было ни прогнать, ни подавить, что душу этого человека («черт бы его все-таки побрал!») необходимо спасти, что его можно еще наставить на путь истинный, а может быть, даже обратить в свою веру. Кородина, чьи два больших дорогих автомобиля почти всегда стояли в гараже, доверчиво обступили молодые пастыри, священники из ближайшего рабочего района. Это были угрюмые, обутые в грубые ботинки люди; Кородин воображал, что они читали Бернаноса и Блуа, хотя только он сам — и это говорило в его пользу — испытывал волнение от их книг, а угрюмые священники получали иногда от Кородина чек, считая его, впрочем, человеком не слишком-то щедрым. Но для Кородина подаренный им чек означал верность исконным заповедям христианства, открытую оппозицию существующему порядку, своему сословию и дорогим автомобилям. Он и в самом деле имел уже неприятности из-за своих «симпатий к красным», его уже слегка журили за это, а его друг епископ, читавший, как и Кородин, Бернаноса, который не только не волновал его, но был ему чужд, епископ предпочел бы увидеть кородинские чеки в другой жертвенной чаше.
Кородин, всегда обо всем знавший, всегда помнивший все даты рождений хотя бы ради того, чтобы не обидеть никого из своей многочисленной и зажиточной родни, хотел выразить Кетенхейве свое соболезнование, может быть надеясь, что в момент душевного потрясения тот будет более доступен обращению в истинную веру, что утрата бренного земного счастья обратила его помыслы к радостям бессмертия. Но, оказавшись рядом с Кетенхейве, он почувствовал, что его соболезнования были бы неуместны, даже бестактны, говорили бы о предосудительной интимности; такому, человеку, как Кетенхейве, могло показаться сомнительным все то, что в кругу Кородина считалось само собой разумеющимся (например, выражать соболезнования). Не известно, горевал ли вообще Кетенхейве, по нему это не было заметно, он не носил на рукаве черной повязки и черной ленты на лацкане, и в глазах вдовца не видно было слез, но именно из-за этого Кородина и влекло к нему, к человеку, который, может быть, скрывает свое горе от людей. И Кородин, опустив глаза и уставившись на мостовую Мюнстерплац, сказал:
— Мы стоим сейчас на месте франконского кладбища времен Священной Римской империи.
И так уж получилось, когда эта фраза была произнесена, когда эта случайная мысль, возникшая от смущения, эта вдруг появившаяся ассоциация, была высказана вслух, он почувствовал, что она глупее, чем всякое соболезнование. Кетенхейве мог понять ее как намек на свой траур и в то же время как банально-циническую попытку не заметить этот траур. Страшно сконфузившись, Кородин от кладбищ сразу перескочил к вопросу, к которому в ином случае долго бы не решался подступиться и который, возможно, так и не затронул бы, поскольку, в сущности, это было предложением предательства, пусть даже предательства плохой, несправедливой партии.
— Не могли бы вы изменить свою политическую позицию? — спросил Кородин.
Кетенхейве его понял. Он понял также, что Кородин хотел выразить ему свое соболезнование, и был благодарен, что тот этого не сделал. Конечно, он мог бы изменить свою позицию. Вполне мог бы ее изменить. Любой человек может изменить любую позицию, но со смертью Эльки Кетенхейве потерял единственное близкое ему существо, которое хорошо знало его прежние взгляды, было свидетелем его волнений, и поэтому Кетенхейве уже никогда больше не мог изменить свою позицию. Он не мог изменить ее по своей воле и потому, что эта позиция выражала его суть, его всегдашнее отвращение к злу, и он тем более не мог ее изменить, когда вспоминал о недолгой жизни Эльки, искалеченной преступлениями и войной, а Кородин уже подсказал ему ответ, упомянув о франконском кладбище.
— Я не хочу новых кладбищ, — ответил Кетенхейве.
Он мог бы еще добавить, что не хочет ни европейского, ни малоевропейского кладбища, однако подобные фразы казались ему слишком патетичными. Конечно, кладбище — это аргумент, им можно предостеречь от других кладбищ. Это они знали оба. Но Кородин ведь тоже не хотел новых кладбищ. Он не был милитаристом. Он был офицером запаса. Но он готов был даже согласиться на кладбище, подразумеваемое Кетенхейве, чтобы предотвратить появление другого, более обширного кладбища, — а он не сомневался, что иначе оно появится, — на котором, если так случится, будет Погребен и он сам вместе со своими автомобилями, женой и детьми.
Но как это предотвратить? История — это ребенок-несмышленыш или старик поводырь, который один лишь знает, куда ведет путь, и поэтому шагает вперед, ни на кого не обращая внимания. Кородин и Кетенхейве дошли до дворцового парка и остановились у детской площадки. Две маленькие девочки качались на детских качелях. Одна из девочек была толстенькая, другая — худенькая, с красивыми стройными ножками. Толстушка отталкивалась от земли ногами, чтобы взлететь повыше.