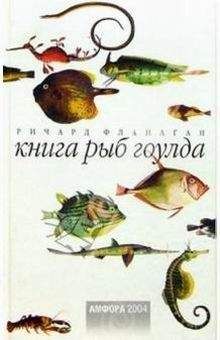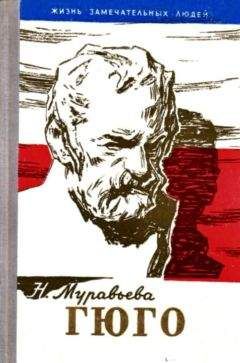I
До сей поры мне ещё не довелось описать свою весьма скромную роль в том поистине великом предприятии, кое представляла собой высадка англичан на Землю Ван-Димена, как мы её тогда называли, или на Тасманию, как предпочитают ныне звать её здесь родившиеся, изрядно стыдясь, видимо, свидетельств вроде моего повествования о событиях, очевидцем которых мне довелось стать. Однако я таки полагаю, моё участие в них достойно описания и увековечения.
С той самой поры, как в 1803 году я, тогда желторотый юнец, выпрыгнул из вельбота — по настоянию мистера Бэнкса, ткнувшего меня пистолетом в спину для поддержания моего духа, — и упал ничком в бурные воды бухты Рисдон, и на меня, и на страну, близ берегов коей это свершилось, то и дело обрушивались всяческие беды.
Я то плыл, барахтаясь, то брёл по мелководью, сбиваемый с ног волнами, пока не выбрался наконец на берег с тем, что представлялось мне стягом родины, и как можно глубже воткнул древко в песок, таким образом вводя во владение бескрайней страной, простёршейся передо мною, своё великое королевство, кое символизировал развевающийся над головой флаг. Но едва я опустил руку, отсалютовав ему, и гордо возвёл на него свой взор, как увидел, что на ветру реет и полощется пожелтевшая простыня, вся в грязных обширных пятнах, кои остались на ней после томных вечеров, проведённых губернатором Боуэном в обществе самоанской принцессы Лаллы-Рух.
Я получил семь лет за хищение частной собственности, ещё четырнадцать за неуважение к представителю власти и двадцать восемь сверх того за оскорбление Величества. Нужно отдать должное судьям, они проявили милосердие и не дали мне пожизненного срока, но всё равно это значило, что я осуждён на всю оставшуюся жизнь.
Вот так всё и получилось. Где-то через год мне удалось совершить побег, и я отбыл на борту китобойного судна в Америку, откуда вернулся в Англию, где жил прячась, подобно крысе, скрываясь под разными вымышленными именами все последующие двадцать лет, пока не был опознан и депортирован обратно, сюда. И ей-богу, единственное, что ещё заставляет меня цепляться за жизнь, это отнюдь не надежда на освобождение, а напротив, упование, что наконец надо мной смилуются и сделают то, что следовало сделать много лет назад, то есть убить.
Губернатор Боуэн был столь разъярён случившимся, что, когда по прошествии небольшого времени несколько сотен чернокожих с семьями явилось к бухте поохотиться на кенгуру, принял это за объявление войны и немедленно велел канонирам открыть огонь по туземцам, сгрудившимся на берегу. После залпа на песке осталось примерно сорок пять мёртвых мужчин, женщин и детей, и бог весть сколько ещё раненых соотечественники уволокли умирать в далёких селениях.
К восторгу мистера Бэнкса, трупы чернокожих по большей части не имели видимых повреждений, равно как и множество обретённых им предметов материальной культуры: копий, изящных ожерелий из раковин, тростниковых корзин, шкур и тому подобного. Пока я, прикованный к дереву кандалами, ожидал приговора, мои собратья по каторге занимались тем, что отрубали чернокожим головы и засаливали их. Полдюжины бочек с головами, плавающими в рассоле, как на Хэллоуин плавают в ушате с водой яблоки, которые ребятишки, заложившие руки за спину, с хохотом вытаскивают зубами, соревнуясь, кто сделает это ловчее, доставили мистеру Бэнксу большое удовольствие; он был рад — и тут я передаю его собственные слова, — что они могут расширить наши знания о побочной отрасли человеческой расы.
И теперь каждый раз, когда волны снова начинают лизать мои истерзанные лодыжки, подбираясь всё выше и выше, я вспоминаю эти купающиеся в рассоле чёрные головы с их белёсыми, как творог, глазами, закатившимися не то от ужаса, не то от недоумения, и думаю, что ни им, ни мне тогда не дано было знать, сколько бед навлекут они на мою собственную башку. Когда острая боль обжигает мои ноги, изъязвлённые, покрытые струпьями, как скалы устрицами, там, где лодыжки скованы железными кандалами, я знаю, что вскоре мою камеру, прилепившуюся у подножия каменистого утёса ниже верхней точки прилива, затопит водой; вам, без сомнения, доводилось читать об этих печально известных «рыбьих садках» в лживых бульварных газетёнках, печатавших истории про беглого каторжника Мэтта Брейди, бесчеловечные условия его заключения и последующую карьеру знаменитого разбойника, наводившего страх на жителей буша.
Нельзя сказать, что я непременно утону; возможно, мне удастся, как и другим до меня, несколько часов провисеть, ухватившись за прутья решётки над головой и стараясь подтянуться как можно выше, чтобы искать спасения в том небольшом пространстве высотою в один фут, которое остаётся в полный прилив между водою и решётчатым потолком. Порой я позволяю себе отпустить прутья и плавать по моему крошечному королевству в надежде погибнуть. Иногда во время подобных заплывов я начинаю вести счёт тем выгодам, которые предоставляет мне нынешнее положение: похоже, сие купание два раза в день избавило меня от вшей, и вдобавок теперешнее узилище моё, хотя и весьма сырое, пахнет морем и водорослями, то есть избавлено от ужасающего смрада испражнений и тухлой козлятины, который обычно витает в местах заточения.
Итак, всего две выгоды, но и это серьёзное испытание моей способности складывать в уме. Так что, плавая в холодной воде, сотрясаясь сразу мелкой и крупной дрожью, словно репетируя ожидающее меня повешение, я вдруг иногда ощущаю, что с моим сознанием что-то происходит: оно срывается с цепи и оказывается на свободе, и тогда я воображаю себя опять счастливцем, рисующим рыб.
Можете называть меня или обзывать как хотите: другие так и делают, а мне всё равно; ведь я совсем не тот, кто есть. История души человека слабо связана с историей его жизни, коя есть не что иное, как панцирь, который таскает он на себе, подобно черепахе или раку, в коем сперва растёт, а затем умирает. Во всяком случае, так говорила мне рыба-дикобраз — вечно она суётся куда не надо своей жирной, толстой башкой. За сим последует то, что, видимо, и окажется истинною моей историей, хотя, возможно, и нет; но и в том и в другом случае это уже не будет иметь большого значения. Просто теперь, когда и рыба-дикобраз уже умерла, и Старого Викинга не стало, мне всё-таки хочется рассказать, откуда взялись мои скромные зарисовки рыб, прежде чем я и сам войду в их число.
И дело не в том, что я полагаю будущее подобным сей тёмной, сырой камере, на мокрых, сложенных из песчаника стенах коей можно было бы написать моё имя наряду с многими другими, прежде чем уйти в небытие, как недавний прилив, который исчез, словно его не бывало, или в том, что я тёшу себя тщеславною мечтой, будто написанное мною переживёт меня, став историческим документом, который прославит имя моё среди грядущих поколений, и потомки сравнят его с оставшимися на плаву обломками разбитой о скалы свободы. Я слишком далеко зашёл, чтобы верить в такие игры. Правда же состоит в том, что сперва у меня возникло странное желание просто сообщить обо всём, исповедаться — ну, хотя бы отчасти, — а позже это попросту стало дурною привычкой, столь же неотвязною и гнусною, как чесание зудящего от вшей паха.
Но не подумайте, будто я хочу сказать, что за мною не присматривают, не заботятся обо мне. Далеко нет. Иногда мне приносят в миске шмат осклизлого и гнилого свиного сала, когда-то солёного, и бросают им в меня. Иногда я улыбаюсь в ответ и, если чувствую достаточно сил, в свою очередь швыряю припасённый специально для этого экскремент. А кроме того, после особенно удачного обмена знаками внимания мне иногда задают хорошую взбучку, и за это я тоже благодарю, ибо она доказывает, что моя персона кого-то ещё слегка заботит. «Спасибо огромное, дорогие мои, — говорю я, — спасибо, спасибо, спасибочки». Над этим смеются, и, доложу вам, в промежутках между битьём и швырянием экскрементов мы так замечательно ладим, что просто чудо.
— А вот что хорошо в островной каторжной колонии, — обращаюсь я громким шёпотом к двери моей камеры-клетки, — так это, что мы все вместе сидим в дерьме, все — и надзиратели, и солдаты охраны, и даже сам Комендант. Разве не так? Ведь так же?
— Нет, — кричит тюремщик Побджой с другого конца камеры, отодвигая засов, но тут я делаю вид, что не слышу его ответа, ибо тюремщику Побджою ещё не пришёл черёд появиться на страницах моей повести, но подождите, он ещё появится и, когда это случится, так легко с них не уйдёт.
Я понимаю, мне с самого начала следовало бы рассказать, почему я стал зарисовывать рыб и почему сие занятие сделалось для меня столь важным. Но ей-богу, мне самому ничего не понятно: вся эта история, похоже, выше моего разумения, так что объяснить, в чём дело, я не способен тем паче. Однако я могу утверждать наверное, что сие каторжное поселение прежде не видело ни одного другого рисующего арестанта; даже если б кому-то подобное и пришло в голову, здесь все знают: рисовать запрещено под страхом строжайшего наказания.