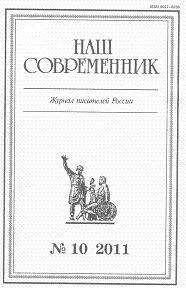Грустно на душе после разговора с завучем. Он наорал за то, что использую на уроках цитаты из Иоанна Златоуста. Но ведь это — великий православный философ! И весь вечер почему-то вспоминалось студенчество. Как вызывали к декану…
Со второго курса меня увлекла история Киевской Руси, становление русских княжеств, последующие века вплоть до эпохи Петра. Мой одногруппник, Семка Гольдман, приносил для чтения (по два рубля за том) „Историю государства Российского“ из библиотеки деда. С трепетом брал я в руки дореволюционные книги, с „ятями“, с пятнышками свечного воска. Семен утверждал, что собрание сочинений Карамзина — из гимназии. Боже, сколько людей учило историю по этим пожелтевшим страницам! Они обладали магической властью, вызывая эстетическое удовольствие от плотной глянцевитой бумаги, от стиля изложения, от чувства сопричастности тому великому, что пережито Россией. Я запомнил начальные слова: „История в некотором смысле есть священная книга народов; главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение и пример будущего“.
И чем глубже изучал я российскую историю, зачитываясь Соловьевым, Костомаровым, Ключевским и Забелиным, чем шире знакомился с архивными материалами, тем сильней охватывало меня вольнодумство. Разница между выводами и заключениями великих историков и тем, что написано в институтских учебниках, — огромнейшая! Я нередко спорил с однокурсниками и даже преподавателями, пытаясь установить истину.
Наряду с лирикой сочинил эпическую поэму „Благоверный Владимир“. И вдруг на четвертом курсе меня пригласил к себе секретарь институтского бюро комсомола. Строгий парень, с профилем Ленина на лацкане пиджака, потребовал „не пороть чушь насчет величия Руси, а проявить себя в делах комсомольской организации“. По наивности я отнесся к предостережению легкомысленно. Затем главу из поэмы отказались опубликовать в институтской многотиражке. Безо всякой причины преподаватели стали ко мне относиться придирчиво. А я доказывал правоту, основанную на дополнительных сведениях, и на коллоквиуме похвалил адмирала Колчака за географические открытия.
Тот солнечный октябрьский день запомнил навсегда. Меня потребовал к себе декан. И едва затворил я тяжелую дверь его кабинета, как ощутил зловещую тишину. Владлен Иванович, читавший у нас лекции, был хмур, задушенно крутил шеей, хотя узел галстука можно было бы ослабить. На мое приветствие ни он, утиравший пот с покрасневшей лысины, ни мужчина атлетического сложения, в сером костюме, не отозвались. „Бакланов? — неприязненно уточнил незнакомец, суживая ледяные глаза. — Студент четвертого курса исторического факультета?“ — „Да“. — „Что такое великодержавный шовинизм, вам, надеюсь, известно? Тем более что вы — комсомолец“. — „Пока еще студент и комсомолец…“ — подыграл Владлен Иванович. „Разумеется, знаю, — ответил я уверенно. — Ленин указывал на…“ — „Молчать! Белогвардейских палачей полюбил? Кто дал задание вести антисоветскую пропаганду?“ От страха я остолбенел. А „серый человек“ молотил обвинения, выведывал, кто разделяет мои взгляды националиста. В голосе его ощущалась такая сокрушительная энергия, что мурашки бегали по спине. Я на самом деле поверил, что совершил преступление…
Как померкло в глазах — не уследил. Очнулся в приемной, когда фельдшер держал у лица ватку с нашатырем. Не было бы счастья, да помог обморок! Хотели, вероятно, за вольнодумство отчислить из института в назидание другим, но выяснили, что враг из меня неопасный, хилый, и ограничились проработкой.
Стихотворение получилось таким:
Пусть дороги пеплом припорошены
Бесшабашной юностью вдали, —
Мы идем звенящей летней рощею,
Отдавая всё сполна любви!
О, моя восторженная женщина!
Несравненна ты в своей красе.
Знать, недаром Богом мы повенчаны, —
Грустный странник и цветок в росе…
Именно так я воспринимаю возлюбленную!
Пишу в родном доме. Полночь. Неожиданный дождь заставил удирать на мотоцикле из Бирючьего лога и укрыться в хуторе. Мы примчались к родителям с большой охапкой темно-красных лазориков. Я познакомил их с Мариной. Мать сразу же заулыбалась, и я убедился, что моя будущая жена ей понравилась. А отец по своей всегдашней замкнутости, привыкший сутками работать в поле на тракторе, лишь вежливо поздоровался. Дождь шпарит до сих пор! Поэтому после веселого застолья, — даже Марина пригубила домашнего винца, — родители нас не отпустили. Марина спит в моей комнате. А мне постелили в прихожке. Но разве уснешь?! Слушаю, как шумит апрельский ливень…
Я невероятно счастлив! Да потому что целовался с ней на пруду, потому что она тоже призналась в любви. Потому что мы молоды! Такая запредельная радость овладела мной впервые в жизни! С упоением думаю о Маринушке, самой прекрасной на планете!
Сумбур в голове. Господи, какое блаженство быть рядом с любимой, созерцать ее красоту, желать безумно! Самые ласковые слова, какие существуют, я сказал сегодня Марине и прочел стихотворение. Она обняла меня…
Бирючий лог уже зацвел, подернулся пушковой травкой, а гладь огромного пруда обрела теплую, глубокую зеркальность. Жаворонки не умолкали над нами в солнечной выси — близкие как будто и незримые. А мы бродили с Мариной, завороженные простором, цветущим терном, лимонно-желтыми и красными протоками лазориков. И я говорил ей о любви…»
— …Трошки, дядька, отъедь! Слышь? Не проходит машина! — требовал рядом настойчивый басок.
Андрей Петрович оторвался от дневника. Небритый хуторянин с шельмоватыми глазками, склоняясь к дверце, показывал рукой на допотопный «москвичок». Разъехались. И тут же из Дома культуры высыпала шумливая толпа. Среди женщин он высмотрел курносую, коротко подстриженную Валентину, в пестрой кофточке и широченных темных штанах. Располневшая и как будто укоротившаяся в росте, она также увидела его и подвернула, улыбаясь веснушчатым лицом.
— Никак ты, Андрейка? Откуда надуло?
Брат, перебирая костылями, правил к ним по опустевшей аллее. Седоватый чуб был мокрым от пота, капли его лоснились и на щеках. С лихим видом, расчетливо встал в полуметре, зажав планки под мышками. И по движению порывистой руки, по блеску глаз угадывалась неподдельная радость.
— Должно, отец сказал, где мы? Молодец, что прикатил, — говорил Иван, глядя цепко и озорно. — Видишь, как обрубили? А все равно пляшу на одной ноге!
— Когда глаза зальет! Ему пить запретили как смертнику, а он… — Валюшка сокрушенно махнула рукой. — Атаман одноногий!
— Ты, вижу, на лихом коне, — кивнул Иван, не обратив внимания на задирку жены.
— Так точно, господин подъесаул! — Андрей Петрович, подхватив шутливый настрой, жестом пригласил к машине. — Извольте. Доставлю с ветерком!
Валентина помогла мужу сесть сзади, а сама плюхнулась рядом с гостем. Он повел машину и сразу же признался:
— Хоть и вызвал ты меня, Ваня, по горькому поводу, а все равно приятно. Соскучился по родине.
— По какому поводу? — оглянулась казачка. — Прямо чудеса! Они всё знают, а я как дурочка.
— Не дуй в уши! — огрызнулся супруг. — Привыкла орать… Мы с Андреем должны теткино наследство поделить. Поровну. Я узнавал у юриста, когда в больницу ездил.
Андрей Петрович переключил скорость, разгоняя машину. И не заметил, как Валюшка налилась вишневым соком, созрела в гневе.
— Понятненько… А какое отношение Андрей к тетке имеет, если век не видал, не кормил, сранки не замывал? — вновь обращаясь к мужу, выпалила казачка. — У меня ты спросил, — я твоя жена?!
— Угомонись! Дюже расхрабрилась…
— И ты, гостечек, хорош! Глаз не казал, а за добычей явился. А еще детей в школе благородству наставлял!
— Мне это наследство не нужно, — успокоил ее Андрей Петрович. — Я приехал за тем, чтобы оформить его на Ивана.
— Встряешь в казачьи разговоры… Шмонька! Костылем перетянуть? — возмущенно рявкнул и заворочался позади Иван.
— И перетяни, поглядим, что будет… — бесстрашно отозвалась супруга.
До самого дома ехали молча. Высадив жену и приказав ей готовить обед,
брат попросил «мотнуться по делам».
— Не обижайся. Валька у меня шальная, с одного оборота заводится. Ну, да шут с ней! Отобедаем, а водочка сама, как говорится, надоумит… Помнишь, где Майский? За двадцать верст отсюда. Вряд ли кто подворье купит. Разве беженцы какие… Наоборот, оттуда съезжают. Заколачивают хаты…
— Это за Бирючьим логом?
— Чуть дальше.
— Я хотел порыбачить там. С ночевкой.
— Дело хорошее. Побуду с тобой, но только дотемна. Укол нужно делать. Да и культя подкравливает, зараза. Перевязываю…