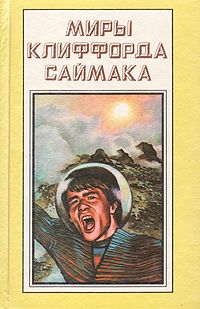Раньше, когда Валентин сталкивался с подобными чувствами — а они, разумеется, высказывались не всегда прямо, — в мозгу всплывало дремучее слово «кулачество». Но, занявшись своим «критическим краеведением», он сообразил, что тут нечто иное, нечто более давнее и глубокое. Память подсказывала: тебе это знакомо… ты читал об этом… Но где, когда? Очевидно, в студенчестве, в университете… У Владимира Ильича? Но в каком из его трудов?.. При своей привычке додумывать все до конца Валентин не стал откладывать выяснение на потом, а сразу же помчался в районную библиотеку. И уже по дороге его осенило: «Развитие капитализма в России» — именно там надо смотреть! И точно, немного полистав плотненький коричневый том, он нашел ее, эту фразу, которая еще, кажется, на третьем курсе запала ему в голову: «Дело в том, что в Сибири… нет сложившейся частной собственности на землю. Зажиточный крестьянин не покупает и не арендует земли, а захватывает ее…» Захватный способ землепользования — вот он, четкий, емкий, предельно сжатый, как всегда у Ленина, ответ на его расплывчатые догадки и вопросы. Двигаться дальше было уже проще: захватный способ распространялся в Сибири не только на пахотные земли, но и вообще на любые угодья — сенокосные, рыбные, охотничьи, ягодные… Бесследно исчезнувшие из сельского хозяйства, захватные традиции все еще отсиживались, как кикиморы, в кержацких уголках тайги, и Валентину доводилось самолично слышать рассуждения, можно сказать, до умиления беззастенчивые: «На тоем хребту наш дедушка Бухтей еще сыздетства шишковал, потому хребет Бухтеевским зовется, стало быть, никто туды не моги соваться!»
Вторжение нового — будь то автомобильная дорога, новый поселок, заповедник или заказник — потомки дедушки Бухтея встречали со скрытым или явным неодобрением Им хотелось бы продолжать и дальше жить по старинке, оставаясь наедине с беззащитной природой и верша свою расправу над ней без посторонних глаз, живодерствуя без свидетелей. Это было не что иное, как перенесенное на другое поприще старообрядческое стремление отсидеться в стороне от всего, блюсти в своей деревне, в своем углу темное варварство, древнюю изуверскую власть сильного над слабым, старшего над младшим, беспрепятственно давать выход «нашему крутому таежному ндраву», хранить в священной неприкосновенности свою кондовость, трухлявые гробы своего прошлого.
Так это оценивал и понимал Валентин, но, оказывается, были люди, которые думали совсем иначе. Сибирь виделась им исключительной «матушкой», а ее пережитки — «духовной преемственностью», «нравственными заветами прошлого», «суровой и простой библейской значительностью», «вековыми устоями своеобычной сибирской сторонушки». Ну, относительно «библейской значительности» Валентин ничего возразить не мог, а вот насчет «почвенной мудрости» и «теплоты сострадания», якобы издавна лампадно теплящихся в старых деревнях, то тут у него было что сказать.
«Комиссар повел их в конце великого поста в дремучий бор по течению реки Тарбагатай, позволил им самим выбрать место и обстроиться как угодно, дав им четыре года льготы от платежа подушных податей. Каково было удивление этого чиновника, когда посетил их через полтора года и увидел красиво выстроенную деревню, огороды и пашни в таком месте, где за два года был непроходимый лес…»
Так начиналось обживание новых мест, и вместе с ростом зажиточности кое у кого росло высокомерное отношение к чужакам, к переселенцам более поздних времен Об этом тоже было сказано в «Развитии капитализма в России»: «Весьма интересно наблюдать, что отношения зажиточного сибиряка к поселенцу… в сущности совершенно тождественны с отношениями наших зажиточных общинников к их безлошадным и однолошадным «собратам»».
За два протекших с тех пор столетия люди славно потрудились, и Валентин, не раз проезжавший через этот самый Тарбагатай, никаких следов, напоминающих о былом «дремучем боре», и близко не видел. Но удивительно было не это: в конце концов, рубить лес необходимо — на топливо, на строительство, чтобы высвободить землю под пашни. Но люди, оголяя землю, способствовали тем самым иссяканию вод, открывали простор ветрам всех времен года, да и собственным полям наносили ущерб, ибо неизбежно приходили в движение пески, закрепленные до того сосновыми массивами. А вот сажали те же самые люди что-нибудь взамен или нет — пусть самые неприхотливые, не требующие ухода породы деревьев и кустарников? Увы, сибирская деревня, как видел Валентин, чаще всего являла собой угрюмые серые ряды заборов и домов, отнюдь не осененных шумящей на ветру зеленой листвой.
Почему так повелось? В том ли дело, что Сибирь, суровая, непривычная, против воли навязанная, представлялась, да и была, мачехой для тех первопоселенцев, что попали сюда за бунты, за раскол и просто не от хорошей жизни? И можно ли ожидать от таких людей бережного, рачительного отношения к здешней земле, если с первых же шагов им надо было в поте лица добывать себе кров и пищу; если лес для них был скорее врагом, чем другом, ибо его надо было корчевать, выжигать, чтобы освободить участок для пахоты; если в глубине души у них не могла не теплиться надежда все же вернуться когда-нибудь из постылой этой чужбины в отчие края; если вокруг было ошеломительно, нескончаемо много всего — вольной земли, лесов, вод, и все это не монастырское, не помещичье, а как бы ничье? Стройся, паши, сколько одолеешь и сможешь…
Да, в таких условиях ни сознательно, ни бессознательно принцип «брать, улучшая, и улучшать, беря» применительно к сибирской природе не мог, естественно, возникнуть в умах людей. Надо думать, сама мысль о том, чтобы посадить дерево, к тому ж не плодовое, когда кругом нетронутое море тайги, показалась бы, вероятно, дикой тем первопоселенцам, от коих пошли обычаи последующих поколений.
Несколько парадоксальный вывод, к которому пришел Валентин, был таков: плохо не то, что вообще идет промышленное освоение Сибири, а то, что уровень этой освоенности, «окультуренности» еще недостаточен. Все еще продолжали путаться под ногами предрассудки старой Сибири. Все еще сохранялись медвежьи углы, причем не в качестве географического понятия, а медвежьи углы в сознании человека.
В кабинет Лиханова он вошел почти точно через час после ухода, и при виде его тот даже привстал от изумления. Одетый с иголочки, при бордовом галстуке и остроносых лакированных туфлях, чисто выбритый и с мокрыми еще волосами, крепко загорелый Валентин выглядел спортсменом, вернувшимся со сборов где-то в Крыму или на Кавказе.
— Ёшкин кот! — вскричал Лиханов. — Ты это, буквально, на прием к министру летишь?
— Нет слов, снабженцы у вас расторопные, — весело заявил Валентин, сел и подмигнул — Как сказал один босой мудрец возле магазина: кто запретит роскошно жить?! Эрдэ еще не было?
Лиханов развел руками.
— Что ж, подождем, — Валентин забросил ногу на ногу и сцепил на колене пальцы. — Дело-то, собственно, вот в чем. Не знаю уж зачем, но в управление приехал Стрелецкий. Ребята передали мне по рации…
— Погоди, это какой же Стрелецкий? Тот самый, что ли?
— Ну, а какой же еще? Конечно, тот самый. Член-корр, корифей и тэдэ…
— Как же, как же. Мы, елки-палки, по его книгам, помню, к экзаменам готовились… Или возьми ты любой геологический отчет, так там в главе «История исследований» везде, буквально, Стрелецкий, Стрелецкий… Да-а, а я почему-то думал, что он уже того…
Валентин фыркнул:
— Эти старики покрепче нас с тобой! Исследовательскими институтами ворочают, монографии издают, по заграницам ездят. У них, брат, не наша закалка, это — динозавры!
— Вот и батя твой из таких же…
— Отец-то? Ну что ты, какой же из него динозавр. Он у меня тот самый скромный савраска, которого укатали крутые горки… Короче, сегодня вечером я обязательно должен увидеться со Стрелецким и задать ему два — только два! — вопроса.
— Всего лишь? Ты их лучше моему прорабу задай. Он тебе любой вопрос в момент растолкует. Ядреным народным языком… Стало быть, ты ради этого и вырядился?
— Ради этого, а что?
— Ничего. Мог бы и в энцефалитке заявиться — небось старик не осудил бы.
— Осудить-то не осудил бы, конечно, но… поскольку я предстану перед ним в качестве просителя, это может выглядеть попыткой сыграть на своем затрапезно-полевом обличье. Вот-де мы, скромные герои наших дней. Уродуемся, мол, как карлы за растрату. Цените и сочувствуйте. Все это, дорогой Петрович, пижонство есть и выпендреж.
Лиханов крякнул и поскреб затылок:
— Экий ты, буквально, щепетильный малый… Однако же… — он взглянул на часы, — пора и обедать. Пошли, а то жена, наверно, уже заждалась.
— Да, вот еще что, Петрович, — Валентин достал из рюкзака наган. — Спрячь-ка в свой сейф вот этот сучок.