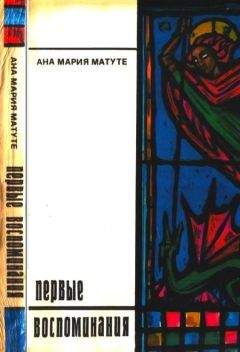Слева, до самого обрыва, до лесистых гор, высились черные скалы. Внизу блестело море. Опять, как почти всегда, мне стало страшно. Не могут же меня бросить одну, когда я ничего не знаю и у меня нет защиты! Не могут, и все.
— Разумеется, — сказала я.
(Так говорил Китаец, когда беседовал с бабушкой.) Борха очертил сигаретой светлый круг. Потом провел рукой по моему лицу, и я ощутила его пальцы на лбу и на щеке. Это было очень неприятно. Я знала, что он так делает, когда, победив Гьема в драке и приперев к стене, хочет его унизить. Я выругалась, хотя не знала, что это ругательство значит.
— Отец научил?
Мне захотелось соврать. Захотелось выдумать про отца что-нибудь невероятное (я ничего не знала о нем — на фронте он, в тылу, за границей). Надо было выдумать себе отца, чтобы защищаться от кого-то или от чего-то. Непременно надо. И вдруг я поняла — сама того не ведая, я выдумываю его давно, днем и ночью. Тогда я горделиво улыбнулась:
— Много ты знаешь! Думаешь, ты очень умный, да? Ох, и надоел ты мне, Борха! Ничего ты не знаешь. Я тебе такое могу рассказать!
Я привыкла к темноте и увидела, как сверкают его глаза. Он схватил меня за руку и встряхнул.
В ту минуту я не сердилась на него, ни капельки не злилась. Но я уже не могла сдержаться.
— Сопляк несчастный, — сказала я.
— Какой есть, — ответил он, — а ты меня слушаешься. И худо тебе будет, если не послушаешься.
Его лицо было теперь совсем рядом с моим. Я заметила, что он встал на цыпочки; одно только и мучило его — мой рост. Я была высокой для своих лет, выше его и всех ребят. (Наверное, роста он мне так и не простил.)
— Ну, что со мной делает Китаец? — ехидно спросил он. — Что делает мой дорогой наставник?
— Ты просто его запугал, беднягу…
— А ты что про это знаешь?
Я засмеялась еще загадочней, как смеялся он. На самом деле я не знала ничего.
— Меня тут скоро не будет, — хвастливо сказала я. — Скорей, чем вы думаете.
Он невольно удивился:
— Когда это?
— Так я тебе и сказала! Ты много чего не знаешь.
— А, ну тебя!
Он отвернулся и снова пошел вперед, стараясь казаться равнодушным. Желтый свет фонаря медленно облизывал трещины скал. Я старательно следила за тонкими щиколотками Борхи, чтобы ступать след в след.
Когда мы дошли до откоса, уже совсем стемнело. Мы спрыгнули на пристань, и Борха посветил фонарем. «Леонтина» стояла на своем месте.
— Привел… Смотри, Борха, она здесь!
— Почему он не отвел ее в бухту? Я ведь приказал.
И, резко повернувшись, Борха поспешил вверх по ступенькам.
Вечером откос казался величественным. Камни беленых стен были похожи на ряды зловещих, насторожившихся голов, стволы олив изогнулись, как живые, миндальные деревья бросали черную тень. За ними, выше, едва светились окна. На самом верху густо темнел силуэт бабушкиного дома. Небо отливало зеленым и розовым.
О борта «Леонтины» бились волны. Мы прошли несколько метров, и Борха остановился. Желтый в свете фонаря, у первой оливы сидел Китаец и терпеливо ждал.
— А! — сказал Борха. — И вы тут, сеньор!
Когда мы заставали Китайца врасплох, в нем было что-то темное, сосредоточенное, жуткое.
— Мы скажем сеньоре, что гуляли… Хороший вечер, полезно заниматься на воздухе… Скажем, а?
Борха пожал плечами. Мы молча пошли вверх, и я, чего-то пугаясь, покосилась вправо — туда, где были грядки, цветы и белый кубик дома за невысокой стеной. Мануэль Таронхи, Малене, Мария, Бартоломе… Наверное, мертвый сейчас там. Я вздрогнула и остановилась. Мы были уже у миндальных деревьев. От земли остро пахло, а справа, словно тусклая звезда, что-то светило — фонарь или свечка. «Тут живет Мануэль», — подумала я.
— Скорей, пожалуйста, скорей! — сдавленным шепотом торопил Китаец.
Окна в домах светились; без сомнения, бабушка глядела сюда в свой театральный бинокль. Я рассердилась на нее. Сидит там, как толстый, обшарпанный Будда или как прожорливое чучело, и дергает за ниточку своих марионеток. Оттуда, из кабинета, все эти домики, и женщины у очагов, и ревущие дети — словно кукольный театр, а она обволакивает их своим жестким, тусклым взглядом. Как длинные щупальца, ее взгляд проникает в дома, лижет, шарит под столами и кроватями. Он рыщет, вползает под крыши и настигает все — усталость, сон, ласку.
Мы дошли до самых домов. Из-за одной двери, неплотно прикрытой тканью, сочился свет, и я подумала: «Они уже знают про Хосе Таронхи». Что-то было в душном воздухе, в блестящей мошкаре, в струе воды, падавшей на землю, и даже в звоне горшка, разбившегося в тишине. Все звуки говорили об одном: «Уже знают…» Я снова покосилась вправо. Отсюда не был виден огонек в окне у Малене; и тут я очень ясно вспомнила ее самое. Вернее — ее волосы. (Как-то раз она склонилась над колодцем, а я глядела на нее сзади, из-за стены. Волосы у нее распустились. Они были густые, ярко-рыжие, как пламя, тронешь — обожжет. Еще ярче, еще пламенней, чем у Мануэля. Красивые, гладкие волосы ослепительно сверкали на солнце.)
IV
Что-то случилось. В кабинете бабушки не было. Качалка у открытого окна мягко покачивалась от ветра.
Все собрались внизу, в большой гостиной, выходившей на веранду. Когда мы явились, бабушка сурово взглянула на Лауро, потом — на Борху и, наконец, на меня.
— Где вы были так поздно? Почему не сказали, что уходите?
Она всегда не давала Китайцу ответить, обрывала его, не глядя, словно вопрос был обращен к кому-то другому. Сейчас она сказала, что нельзя гулять так поздно и выходить без спросу. Китаец слушал, робко кивая. У дверей стояла Антония и, сжав губы, бессмысленно глядела в одну точку. На ней был шелковый передник в складку и самодельный кружевной воротничок. Я представляла себе, как стучит у нее сердце под черным шелком всякий раз, когда бабушка бранит ее сына; однако стояла она так тихо и бесстрастно, словно ничего не слышала и не видела склоненной головы Китайца.
Бабушка сидела в кресле и, сурово выговаривая нам, жевала одну из своих бесчисленных таблеток. В вырезе платья виднелись морщины и складки; выше, на шее, была бархатная ленточка, а над ленточкой, до подбородка, снова шли морщины. Мне казалось, что бабушку туго перевязали у шеи, отделив голову от тела, словно два мешка, причем голова сделана из чего-то одного, а тело — из другого. В руке у бабушки был янтарно-желтый флакон, откуда она и взяла свою таблетку. У кресла, как всегда величественно, сидел отец Майоль, настоятель собора, и рассеянно вертел бокал с матовым вензелем, голубовато-жемчужный, словно свет во время дождя. В ясные вечера настоятель пил прозрачный апельсиновый ликер, а в туманные дни — верно, считая, что напитки связаны с погодой и цветом неба. (В солнечный день — светлое вино, к вечеру — раздумчивые ликеры.) Когда он об этом говорил, я чувствовала резкий вкус напитков и у меня немного кружилась голова. Над бабушкой и отцом Майолем, в тяжелой раме, красовался дед. Судя по мундиру, по синей или алой ленте (точно не помню), он был важной персоной, но кем именно — я так и не усвоила, хотя мне сотни раз говорили. На столике, в серебряной рамке, стояла фотография дяди. Он был страшно уродлив, но очень похож на Борху. (И дедушка, и дядя Альваро жили, в сущности, с нами. Когда мы сидели в гостиной, нельзя было уклониться от их взгляда, от широкой и глупой улыбки деда и дядиного хищного оскала. Они были с нами, — и длинноносый, худой отец Борхи в большом берете карлиста, со шрамом у рта, и целая толпа бывших вельмож и претендентов на престол, даривших ему свои фотографии.) Тетя Эмилия сидела чуть поодаль, возле веранды, и придерживала занавеску. За окном было темно, только в саду сверкали светлячки. Тетя всегда словно ждала чего-то, словно подкарауливала. Мне казалось, что она пропитана чем-то незнакомым и загадочным. «Как большая ромовая баба, — думала я. — На вид — рыхлая, пресная, а внутри-то ром». Тетя почти всегда молчала. Борха говорил: «Мама грустит, беспокоится о папе». Тетя и дядя были для меня тогда непостижимой загадкой. Тетя абсолютно ничего не делала, разве что — плохо играла на рояле, всегда одно и то же. Она даже не читала газет, наваленных у нас повсюду: перелистает, бессмысленно посмотрит на фотографии, а думает о своем. Глаза у нее были голубые, белки — розоватые, и она вечно за кем-то подглядывала, сидя у окна, или смотрела во двор, примостившись у лестницы. Как-то я подумала: «Она совсем не грустит». Иногда она уезжала утром в город и возвращалась к вечеру, обычно — с подарком. Помню, она привезла мне красивую шелковую пижаму, и я рассталась наконец с гнусными рубашками до пят, которые мне дали в интернате. К бабушке тетя подлизывалась, как Борха. Мне было нелегко представить, что она очень любит дядю. Казалось, что он — тут, в доме, на портрете, при всех регалиях, но мы знали, что он воюет, «крушит врагов и казнит солдат, если они ослушаются». (Борха говорил: «У меня отец — полковник, он может кого хочешь расстрелять».) А на самом деле он будто умер. Совсем как дедушка. Уже два месяца от него почти ничего не было — две-три телеграммы да смутные слухи.