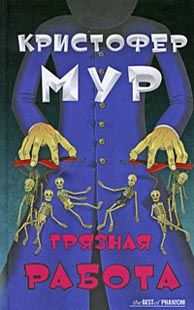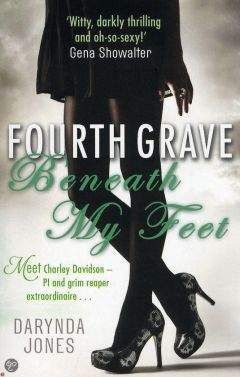– Откуда мне знать, как вы втарены?
– Ну, – ответил Сомик, сделал паузу и ухмыльнулся, – можно сходить со мной на пляж.
– Вы – гадкий и липучий старый козел, правда, мистер Джефферсон? – спросила Эстелль.
Сомик склонил перед ней сверкающую лысину.
– Поистине, мисс. Я поистине гадок и липуч. И я слишком стар, чтобы доставлять людям хлопоты. Это я признаю. – И он протянул ей длинную сухую руку. – Пойдем на пляж и там хорошенько отпразднуем.
Эстелль показалось, что сам сатана водит ее вокруг пальца. Под этой шершавой старой и бесприютной шелухой чувствовалось что-то гладкое и упругое. Ведь именно такая темная тень всплывала из прибоя на ее картинах?
Она взяла его руку.
– Пошли на пляж.
– Ха! – ответил Сомик.
Из-под стойки Мэвис вытащила свою “Луисвилльскую Дубину” и протянула Эстелль:
– На, может, с собой прихватишь?
* * *
Они нашли в скалах нишу, закрытую от ветра. Сомик вытряхнул из черно-белых башмаков песок и потряс носками, разложив их сушиться.
– Подло меня волна прихватила.
– Я ж тебе говорила – сними ботинки, – сказала Эстелль. Все это забавляло ее – она не имела права так радоваться жизни. Несколько глотков из пинты Сомика не дали дешевому белому скиснуть у нее в желудке. Ей было тепло, несмотря на пронизывающий ветер. Сомик, напротив, выглядел довольно уныло.
– Никогда мне океан особо не нравился, – сказал он. – Слишком много там подлых тварей. От них только мурашки по коже и больше ничего.
– Если тебе океан не нравится, чего ж ты меня сюда позвал?
– Тот длинный мужик сказал, что тебе нравится картинки на пляже рисовать.
– У меня в последнее время от океана тоже мурашки по коже. В моих картинах стало больше тьмы.
Длинным пальцем Сомик смахнул песок со ступни.
– А ты блюз нарисовать сможешь?
– Ты когда-нибудь видел Ван-Гога?
Сомик обвел взглядом море. Три четверти луны плескались в нем, как ртуть.
– Ван-Гог... Ван-Гог... скрипач из Сент-Луиса?
– Он и есть, – ответила Эстелль.
Сомик забрал у нее пинту и усмехнулся.
– Девочка, ты хлещешь у мужика пойло да еще и лжешь ему. Я знаю, кто такой Винсент Ван-Гог.
Эстелль не смогла вспомнить, когда в последний раз ее называли девочкой, но была уверена, что тогда ей это и наполовину не понравилось так, как сейчас.
– А теперь кто лжет? Тоже девочка?
– Знаешь, под этим твоим свитером с халатом девочка еще запросто может оказаться. Но опять же – я могу и ошибиться.
– Кто знает?
– А я? Вот – смотри, какая грустная. – Сомик взял гитару, прислоненную к камню, и тихо заиграл под шум прибоя. Он пел о мокрых башмаках, о том, как вино уже плещется на донышке, и о ветре, пробирающем до самой кости. Эстелль прикрыла глаза и медленно покачивалась под музыку. Давно уже ей не было так хорошо.
Он вдруг замолчал.
– Черт бы меня разодрал. Ты только погляди.
Эстелль открыла глаза и посмотрела на полосу прибоя, куда показывал Сомик. На берег выпрыгнула рыба и теперь билась на песке.
– Ты такое когда-нибудь видела?
Эстелль покачала головой. Из воды выскакивало все больше и больше рыбешек. За волноломами море просто кипело от сбесившейся рыбы. Поднялась волна – как будто ее подтолкнули из глубины.
– Там что-то движется.
Сомик подобрал башмаки.
– Пошли-ка отсюда.
Эстелль и не подумала спорить.
– Да. Быстрее.
Она вспомнила огромные тени, которые все время появлялись в волнах на ее картинах. Схватив башмаки Сомика, она соскочила с валуна и быстро направилась по пляжу к лестнице на вершину обрыва, где Сомик оставил свой “универсал”.
– Скорее.
– Иду, иду. – Сомик паучьи сполз с валуна и поспешил следом.
Около машины, когда оба переводили дух, присев на бампер, а Сомик нашаривал в кармане ключи, они вдруг услышали рев. Рев тысячи туберкулезных львов – в нем было поровну громкости, ярости и мокроты. Ребра Эстелль задрожали, отзываясь на этот звук.
– Господи! Что это такое?
– Залезай в машину, девочка.
Эстелль не успела захлопнуть за собой дверцу – Сомик уже возился с ключом зажигания. “Универсал” рванул с места, разбрасывая гравий.
– Постой, у тебя ж ботинки на крыше остались.
– Пусть подавится, – ответил Сомик. – Они получше тех, что он сожрал в прошлый раз.
– Кто – он? Что это такое, к чертовой матери? Ты знаешь, что это было?
– Расскажу, как только с инфарктом покончу.
Огромный Морской Ящер сделал передышку в погоне за восхитительным радиоактивным ароматом и отправил инфразвуковое послание серой китихе, проплывавшей в нескольких милях впереди. В грубом переводе послание звучало так:
– Эй, крошка, как насчет пожрать вместе планктона и чуток побарахтаться?
Китиха не остановилась в своем неуклонном стремлении к югу, но ответила инфразвуковым гулом:
– Я знаю, что ты за пташка. Не лезь, а то напорешься.
Морской Ящер поплыл дальше. По пути чудовище слопало гигантскую акулу, нескольких дельфинов и пару сотен тунцов. Теперь его занимал секс, а не пища. На подходе к Калифорнии радиоактивный запах почти совсем исчез. Утечку на атомной станции обнаружили и ликвидировали. Тварь оказалась примерно в миле от берега – с акулой в брюхе и совершенно не помня, что выманило ее из вулканического гнезда. До хищника донесся с берега сигнал – апатия безразличной ко всему добычи. Депрессия. Теплокровные жертвы – дельфины и киты – тоже иногда издавали его. Огромный косяк пищи просто умолял, чтобы его съели – причем, плескался он у самого берега. Ящер остановился за линией прибоя и всплыл на поверхность посреди зарослей морской травы. Его голова прорвала спутанные пряди водорослей, точно восстающий из могилы грузовик.
И тут он услышал. Ненавистный звук. Вражеский. Прошло уже полвека с тех пор, как Морской Ящер в последний раз покидал глубины вод – суша не была его естественной средой обитания, – но инстинкт нападения перевесил чувство самосохранения. Он закинул голову и, тряхнув огромными лиловыми жабрами, торчавшими на шее, как кроны деревьев, изверг фонтаны воды из рудиментарных легких. Воздух обжег пещеру его гортани впервые за пять десятков лет, вырвавшись ужасающим ревом боли и ярости. Три защитных мембраны сползли с глаз, точно автомобильные стекла: он снова мог видеть в горьком воздухе. Зверь ударил по воде хвостом, взмахнул огромными перепончатыми лапами и торпедой ринулся к берегу.
Прошло почти десять лет с тех пор, как Гейб Фентон препарировал собаку, но теперь, в три часа ночи он всерьез подумывал о том, чтобы взять скальпель и сходить к своему лабрадору-трехлетке Живодеру, который бился в психотическом припадке лая. Днем Живодера выставили на веранду – он весь вывалялся в останках чаек и отказался приближаться к полосе прибоя или вставать под шланг, чтобы вымыться. Для Живодера дохлая птица пахла романтикой.
Гейб выполз из постели и прошлепал в одних трусах к двери, прихватив по дороге походный сапог. Он был биологом – получил в Стэнфорде ученую степень по поведению животных, – поэтому со всем весом академического авторитета распахнул дверь и швырнул в пса сапогом, подкрепив воспитательный навык словесной командой:
– Живодер, а ну заткнись на хер!
Живодер сделал паузу ровно настолько, чтобы увернуться от летящего “Л. Л. Бина”, а затем, верный своей природе и хорошим манерам, выудил сапог из тазика, служившего ему чайной чашкой, и вернул хозяину. Причем аккуратно поставил мокрую обувь прямо на ноги биологу. Гейб захлопнул дверь перед его носом.
Ревнует, подумал Живодер. Не удивительно, что никак не может раздобыть себе самку, пахнущую стиральным порошком и мылом. Кормилец бы так не чудил, если б иногда мог выходить из дому и нюхать дамские попки. (Живодер всегда называл Гейба Кормильцем.) Быстренько облизав себя и убедившись лишний раз, что он и в самом деле – Дон-Жуан всей собачьей породы, Живодер возобновил припадок. Ну как он не понимает, думал пес, – к нам приближается опасность. Тревога, Кормилец, тревога!
Возвращаясь к кровати, Гейб Фентон глянул на монитор компьютера. Масса крохотных зеленых точек ползла по карте Хвойной Бухты. Биолог замер и протер глаза. Невозможно.
Гейб подошел к компьютеру и набрал команду. Карта района развернулась в другом масштабе. Но точки все равно ползли одной линией. Он увеличил масштаб до нескольких миль – они продолжали перемещаться. Каждая зеленая точка на карте обозначала крысу: каждую Гейб в свое время поймал живьем, каждой ввел микрочип, после чего выпустил на свободу. Их местоположение отслеживал и наносил на карту спутник. И теперь эти крысы в радиусе десяти миль все как одна перлись на восток, подальше от побережья. Грызуны так себя не ведут.
Гейб перемотал запись. Массовый исход крыс начался внезапно всего два часа назад, и б ольшая часть популяции на целую милю мигрировала в глубь континента. Они неслись как угорелые и уже далеко вышли за границы привычного ареала. Крысы – спринтеры, на длинные дистанции бегать не умеют. Здесь что-то не так.