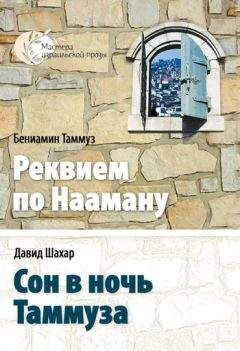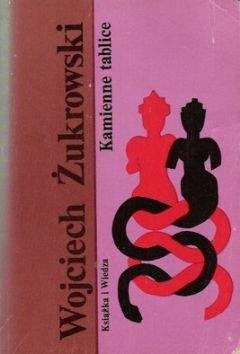Ознакомительная версия.
«Так обстоят дела, – сказал я себе, усаживаясь за рабочий стол, после того как шеф, отсмеявшись с Яэль, вошел в свой кабинет, а она – к машинисткам. – Значит, тебя больше всего в этот миг сердит, что Яэль накричала на Арика, вместо того чтобы пойти танцевать с ним посреди улицы. Это, в общем, достаточная причина, само собой понятная и справедливая, сердиться на красивую и столь ответственную девушку. Она, по твоему мнению, должна была обнять толстую шею Арика и повести его в танго посреди улицы. И даже если бы она это сделала, ты бы продолжал на нее сердиться, ибо в ее движениях не было бы нужного воодушевления – в ней ведь недостаточно спонтанно пульсирует радость жизни».
Вообще-то сама идея танца не возникла бы внезапно, если бы не охранник у дверей со своим неизменным транзистором. Именно в тот миг, когда Яэль бросила почтовое уведомление в спину Арику, из транзистора вырвалась мелодия старинного танго «Ревность» и мгновенно перенесла меня на сорок лет назад: словно водопад, вырвавшийся из теснины в сухое, пыльное русло, возникли Габриэль и Орита на углу улицы рава Кука. Оба почти бежали в кафе «Гат» заказать холодное питье, и тут взгляд Габриэля наткнулся на раскрытый футляр скрипки, лежащий на столе, и он замер. Ни у кого не спрашивая разрешения, извлек он скрипку из футляра, подкрутил колки, настраивая, и начал играть. Когда он перешел от цыганской мелодии к танго «Ревность», популярность которого в те годы была невероятной, Орита просто не смогла сдержать пульсирующего в ней ритма, коснулась рукой волос шофера Дауда, приглашая его на танец. Ей, конечно, хотелось танцевать с Габриэлем, но тот ведь был занят игрой на скрипке, и она обернулась к стоящему рядом шоферу. От прикосновения ее руки по лицу Дауда прошел трепет, подобно волнам, которые проходят под лоснящейся темной коже коня. Когда же Габриэль перешел от танго «Ревность» к мелодии «Улыбки», новомодному слоу-фоксу, который только начали танцевать в те дни, Орита силой потянула жирного Булуса-эффенди. Как стареющий бык, толстяк вдруг встряхнулся, взбодрился, решив показать миру, что есть еще сила в членах и мощь, главным образом, в мышцах жирного брюха извиваться по-мальчишески в танце. Он как бы публично заявлял с этакой грешной улыбочкой, что принимать его должны таким, какой он есть, и тем самым убрал все ухмылки и усмешки, вызываемые его движениями, и купил себе отцовское право вволю натанцеваться с Оритой, как душа его пожелает. Когда же он рухнул на стул под зеленым зонтом, отдуваясь, тяжело дыша, истекая потом, Орита сорвала с головы Габриэля панаму и пошла к толпе, которая сбежалась на редкое зрелище, собирать деньги. Шофер Дауд ибн-Махмуд не смог выдержать такого позора и обратился в бегство, уже не видя, что Орита, по сути, подошла лишь к Булусу-эффенди, и тот в изумлении сунул руку в карман и швырнул в панаму горсть серебряных монет.
– А теперь, – крикнула Орита, – я приглашаю всех на обед в гостиницу «Царь Давид».
С этим видением из прошлого вернулось ко мне ощущение из сна. Я видел этот сон достаточно регулярно в последние годы перед тем, как я был послан на работу в Париж. Во сне я шел искать Ориту в кафе «Гат», чтобы сообщить ей радостную весть.
Орита еще не пришла, и я сижу в ожидании. Хозяин кафе Иосиф Швили втаскивает в кафе носилки, на которых лежит тело Ориты. Я заказываю у Иосифа чашку кофе и печенье, требуя быстрого обслуживания, ибо тороплюсь на встречу с Оритой. С большим аппетитом и удовольствием пью и ем, и затем огибаю носилки с телом, которые мешают мне выйти из кафе. Я знаю, что Орита умерла, но это знание не нарушает радостного ожидания встречи с ней.
Радость эта во сне проистекает из уверенности, что Орита, выпорхнувшая из своего тела, живет сейчас в другом теле, новом, и все же осталась той же Оритой. Тело на носилках – это старый дом, переставший меня интересовать с того момента, как опустел, и я выхожу искать дом новый. Но действительно ли Орита, после того как душа ее выпорхнула из тела, продолжает существовать в живом присутствии близких и знавших ее людей, в неком новом теле? Так или иначе, мне следует искать ее в себе, удовлетворяясь моими воспоминаниями, мыслями, воображением, размышлениями и снами, ибо нет у меня никаких иных шансов вновь ее встретить. Ведь если она продолжает существовать, как нагая душа, глаза плоти не смогут ее видеть за пределами мира материального. Если же она облачилась в другое тело, можно быть уверенным, что изменилась до такой степени, что не только я не узнаю ее, она сама себя не узнает и не вспомнит ничего из прошедшей жизни. Человек не входит дважды в одну ту же воду.
С того момента как я увидел внучку Ориты, пытавшуюся со всех сил спастись от дурацкого моего восклицания «Ты – копия своей бабушки», и до момента, когда из транзистора вырвались звуки танго, ко мне более не возвращался сон, который не давал мне покоя и после пробуждения. Быть может, встреча с внучкой, другими словами, с будущим, отстоящим на сорок лет со дня того танца на иерусалимской улице, с будущим, которое внезапно реально всплыло, здесь и сейчас, – быть может, эта встреча перекрыла канал того повторявшегося сна, растворив мою радость явно не к месту в его тягостно устойчивой атмосфере. Этот миг реальности был в моих глазах воплощением того сна, но все его элементы обрели другую окраску и совершенно неожиданное сплетение, так, что вся его сущность изменилась до неузнаваемости. В тот миг, когда я произнес «Ты – копия своей бабушки», показалось мне, что вот, нашел Ориту в ее новом доме, но уже в течение произносимой фразы радость чуда померкла и обрела вкус погасшей сигареты во рту. Что-то случилось в реальности, более странное, чем во сне. Не Ориту нашел, а старый ее дом, который во сне перестал меня интересовать после того, как она из него упорхнула. Как в видении пророка Иезекииля, открылась могила, соединились кости, обросли плотью, обтянулись кожей и вот передо мной – молодое тело, быть может, даже более прекрасное, чем то, что было мне знакомо, и дух вошел в него, и дыхание жизни, но то была не Орита, а кто-то другой. В восставшее из небытия тело вошла другая душа. А душа Ориты где? Быть может, она, как и я, смотрит снаружи на дом юности своей и удивляется красоте новой его хозяйки, которая, как и все захватчики всех времен, не терпит разговоров о тех, кто им предшествовал?
Но именно в отношении Яэли Ландау должно было в будущем осуществиться то самое мгновение сна перед пробуждением. Через два или три месяца после моего возвращения в Израиль по завершению работы в Париже, я увидел ее танцующей именно так, как она привиделась моему воображению на пороге парижской конторы. И это было точно так же в реальности, и я вспомнил и повторил про себя пришедшие мне тогда на ум слова: «Все есть в ее танце, за исключением радости жизни». Это было в старом доме, на окраине квартала Абу-Top, над долиной Гая бин-Хинома, называемой христианами Геенной, с одной стороны, и долиной Иосафата с другой, напротив горы Сион, с возвышающейся над нею башней церкви Дормицион. Дом этот приковывал мое внимание с давних пор, еще до Шестидневной войны. Тогда он находился на самой границе, за которой простиралась нейтральная территория до позиций Арабского легиона, и окно комнаты с восточной стороны использовалось как наблюдательный пункт в течение дня. Во время одного из военных сборов я и наблюдал из того окна. Тогда и подумал, что именно на этом месте проходила граница между коленом Иегуды и коленом Биньямина, как написано: «И поднималась граница на вершину горы, что над Гиеномом, к озеру, которое на северном краю долины Привидений…» И здесь, на этом месте, придя из Эйн-Рогел, стоял пророк Иеремия и наблюдал за долиной Бин-Хинома, где место геенны огненной. Он видел воды Тихона, холм Офел, стиральное поле, где шла постоянно стирка. Он видел, как братья его из колена Иегуды и Биньямина поклоняются Ваалу и Астарте, солнцу, луне и звездам, и жертвуют своих детей Молоху. Когда у Иеремии защемило сердце при взгляде на братьев своих, приносящих в жертву детей своих, слабых и беззащитных, полностью зависящих от милости отцов, подумал ли он о праотце Аврааме, который остановился на этом месте по пути на гору Мория и сказал сопровождавшим его юношам: «Посидите здесь с ослом, а мы с сыном поднимемся на гору поклониться и вернемся к вам». Авраам лгал подросткам, наивным, как и стоявший рядом с ними ослик, лгал своему наивному сыну, единственному и любимому Ицхаку, которого вел принести в жертву. Или вовсе не лгал им, говорил правду из самой глубины сердца своего, а лгал только Богу, и только благодаря этой великой лжи существует в мире семя Авраама, и Бог дал ему благословение благодаря той лжи? Ведь именно та понятная каждому человечность, жалость сердца, столь глубокая и простая, заставила лгать и самого Иеремию, и ложь его была несравнимо большей и более открытой всем, чем ложь Авраама. Когда Иеремия провозгласил перед всем народом: «…И устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне…», он явно претендовал на то, что говорит от имени Бога, и все внимающие верили, что Бог вещает его устами. От имени Бога Иеремия выступил с публичным заявлением, что Он, Бог Авраама, не повелевал и не говорил, и мысль Ему не приходила жертвовать сыном! Но как же? Ведь Иеремия отлично знал, не менее любого из внимающих ему, что Бог собственной персоной, а не через ангела или серафима, сказал Аврааму: «…Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение…»! Авраам не колебался, не сомневался, не возражал, не спорил и даже не торговался, а тотчас же встал, торопясь, ранним утром, собрал дрова для всесожжения и наточил нож, которым зарежет своего сына, единственного и любимого, Ицхака. Именно этот факт возвел его над всеми, в святое святых, сделав его отцом избранного народа! Если это так, чего же ты, Иеремия, предъявляешь претензии сынам Авраама, идущим его путем, столь жертвенно прилепившимся к Богу. И что интересно: Авраам проявил такую самоотверженную верность Богу выполняя Его повеление, именно в деле жертвоприношения сына, и это после того как сам восстал против Него в деле Содома, лицом к Лицу, как равный с равным: «Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что и с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?» И затем продолжал с ним торговаться, как на базаре. Господь сказал: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу место сие». – «А если будет сорок пять? – сказал Авраам. – Сорок… тридцать… двадцать… десять?» Устав от споров, Бог, как торговец, снижает цену до десяти. И во имя кого делает все это Авраам? Во имя жителей Содома и Гоморры! За их жизнь он сражается, как лев, против наказаний Господних, но когда повелевают ему принести в жертву единственного любимого сына, наивного и ни в чем не повинного Ицхака, тут он торопится выполнить повеление Его, и не только в страхе, а с воодушевлением! Факты говорят сами за себя, и они были известны Иеремии, да и всему народу, и все же, вопреки всему, следует предположить – таково глубокое впечатление от всех его дел – что Иеремия говорил правду и устами его вещал Бог; ибо в сердце Своем и Сам был потрясен видением сжигаемых на жертвенниках Геенны огненной, в долине Гиенома, в пламени и столбах дыма – детей. И это Он вправду вопил: «Я не повелевал этого!..» Такое истязание безвинных детей может идти только от Сатаны, и это он, Сатана, сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение!..» И Авраам безоговорочно сдался Сатане, без всяких условий. И лишь в последний миг у Бога возникло желание спасти Авраама и его сына Ицхака из рук Сатаны, и Он послал Ангела повелеть Аврааму: «Не поднимай руки на отрока и не делай над ним ничего». И нет ничего удивительного в том, что Бог предал Авраама в руки Сатаны. Это ведь не единственный случай, когда Бог, добрый, любимый и милосердный, глумился над верными своими рабами.
Ознакомительная версия.