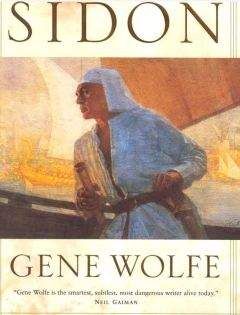Ознакомительная версия.
«Оставить рыбу эту жить. Зачем? Она и так мертва. Оставить! Она священна. Она…»
Пробормотал себе под нос, и сам не услышал себя: «Она поведет меня. Укажет мне Путь».
Манька сделала большой глоток, как удав, с жадной силой в себя ком пищи протолкнула — и взмахнула руками, будто ловила сорванное ветром с веревки белье:
— Ах ты, красотища! Оно ж и лучше, чем это… это…
Хотела непотребство выкричать, да смолчала.
И вдруг непонятно, с силой запела, и голос был не противный, приятный, хоть и с табачной хрипотцой, с простудным присвистом:
— Я девчонка-красотка,
Я в Сибири живу!
Хлеб да водка-селедка —
И держусь на плаву!
Ах вы, дикие горы,
Ах ты, мама-тайга!
Я любовница вора,
Костяная нога!
Мы по разику-разу,
А потом по второй…
Нету правого глаза —
А зато есть другой!
Под телячьим вагоном
Ночью воют волки…
А протез мой картонный —
Вместо левой руки!
Ах вы, лютые горы!
Я накрою на стол!
Я любовница вора —
С пятой ходки пришел…
И сама себя оборвала, заголосила по-другому, мелко, визгливо, разухабисто, яростно, чуть не плюясь, вот-вот вскочит да запляшет:
— Во все стороны тайга!
Во все стороны пурга!
Я марушка боевая,
Хоть не выше сапога… а-а-а-а!
— А ты это, что… — тихо спросил Исса и осторожно коснулся ее локтя, и едва тайком, из любопытства, руку не пощупал, — у тебя, что, рука и правда картонная? И нога — костяная?
Девка округлила глаза, бросила петь, отломила ржаного, откусила сала. Помотала головой, как собака, отгоняющая блох.
— Чо, всему на слово сразу веришь?! Ну ты даешь…
Он хотел сказать: «Не верю», — а вместо этого улыбнулся и тихо выдохнул:
— Верю.
Манька прижала ладони к жующему рту и затряслась вся, забулькала, закачалась: это она так хохотала.
— А ты, — с набитым ртом, сипло дыша забитым простудой носом, прогудела Манька, — ваще куда пресся-то? Бомж ты с виду! А в гондоне у тя — классная жрачка, однако! Чо, омулька-то бум? Или не бум?
И он услышал голос свой опять будто сверху, с небес, со стороны, из-под дощатого потолка конского вагона:
— Я пустился в далекий путь, чтобы встретиться с великим Буддой, носителем мудрости.
— Ёб твою ж мать! — промямлила девка и на миг прекратила жевать. — С кем, с кем?! С будой?! С будом?! Ах ты ж черт ты лысый! Ты знаешь чо?! Это слово… буд… ха, ха, ха!.. по-чеченски значит — пизда! Вот чо! Ах-ха!
— Ты чеченка? — тихо спросил.
— Я-то? А пес меня знает! Не, я гуранка! Козлиха сибирская, местная, ваще! А с чичом я с одним тут перепихнулась! Так он меня трясет… и все вопит: буд, бу-у-у-уд! Я думала, ё-о, в вокзале будет слыхать! Так орал! Ну, с рыбкой-то чо? Взрежем?
И тут за распахнутой в сизый иней и дрожь куржака дверью послышалось детское, слезное:
— Мама-а-а-а! Мама-а-а-а!
Девка глянула кругло, растерянно. Исса встал с соломы, выглянул в холод и железные ущелья мертво стоящих на приколе поездов. Далеко, через два или три пути, сдвинулся, гугукнул, пошел, набирая скорость, лязгая стальными скелетами колес, поезд. Рядом с вагоном, где трапезничали Исса и Манька, стоял мальчик, хорошо и странно одетый. Он держал в руках костяную шкатулку. Он плакал тихо и тонко, канючил, уже без слез — слезы все кончились, а может, застыли на морозе под веками: «Мама-а-а-а! Мама-а-а-а!»
— Ё-о, — Манька воззрилась на дивную картину, — это чудище еще откудова?! Только детского сада не хватало!
Исса спрыгнул из вагона на снег. Рельсина блеснула, как бок его святого омуля.
— Ты кто?
— Я потерялся-а-а-а! Я потерялся-а-а-а!
Исса видел: мальчик дрожит всем телом под темно-вишневым бархатным кафтанчиком, а кафтанчик надет на тонкое, длинное, из хорошего мягкого драпа, почти девчоночье пальтецо; оно бьет его по пяткам; а на голове у мальчонки бархатный берет, и он расшит крупным розовым жемчугом, да брось ты, наверняка стразами поддельными. Как крепко, отчаянно прижимает он к себе костяную шкатулку! Может, там деньги? Золото, может?
…или — бабочка высохшая, тропическая, коллекционная, густо-синяя, как небо над морем. Цвета Великого Озера, куда его путь неведомый лежит.
Он положил руку мальчику на голову, и бархат берета под его пальцами, пахнущими водкой и салом, заструился, разгорелся костром.
— Найдем мы твою маму. — Пересохло в пьяном горле. — Откуда ехали вы? Это город Иркутск. А вы на каком поезде ехали? Уехала мать? Без тебя? Ты… погулять вышел?
— Дай, пацанчик, шкатулочку сюда-а-а-а! — вкрадчиво, лисой запела Манька, наполовину высунувшись из вагона, протягивая к мальчонке жадные руки, пальцами пошевеливая, соблазняя. — Я пока подержу-у-у-у!
— Это не шкатулочка. — Мальчик слегка приподнял круглый костяной ящичек. — Это черепаха! Моя!
Исса глядел на мальчика, на черепаху, на подводное мерцанье розового безумного жемчуга, рассыпанного по швам багряного мягкого берета. Лицо у мальчика светилось бумажным елочным фонариком — нежно, изнутри. Носик кнопочкой. Ротик куриной попочкой. Маленький весь, и черепашка маленькая! Оба маленькие, а жизнь… тоже ведь маленькая… «Может, ты не мальчик, а старичок? Тогда кто же я?»
— Черепаха?..
— Черепаха! — сквозь неутешные слезы подтвердил бархатный малютка. — Моя-а-а-а!
Манька копной вывалилась на снег. Втянула вокзальную гарь сопливым носом. Шагнула к мальчику с черепахой.
— Чо мяукаешь?! А еще мужик! Черепаха, вишь ли! Дай сюда!
Она выбросила вперед руки, ухватилась за спящую черепаху и резко рванула ее к себе. Мальчик завопил, захныкал: «А-а— а-а! А-а-а-а!» — вцепился изо всех силенок, не выпускал родного зверя своего. Мать потерял, так хоть черепаха осталась!
Она и станет ему матерью! Манька орала, мальчонка визжал, они рвали друг у друга из рук несчастную черепаху, Исса стоял над ними недвижно, как вокзальный фонарный столб, и тут из-под вагона соседнего состава, казалось, такого мертвого, такого гробового, выметнулись два, три, о, уже четыре человека в синей форме, и две собаки бегут перед ними, ярятся, тянут поводки, ошейники душат хрипло лающие горла и пушистые загривки, и дергают люди из кобуры табельное оружие, и подбегают все ближе, а один — вот неуклюжий медведь! — падает на снег и ползет к ним по снегу, как лазутчик военный!
— Ё-о! — ослепительно визгнула Манька. Выпустила черепаху. Оттолкнула от себя мальчика, и он упал в испятнанный мазутом снег, пачкая красивенький бархатный кафтан. — Вот те и черепаха!
Мальчик лежал на снегу, глядел круглыми, покорными глазами юной нерпы. Черепаха лежала рядом с ним, как мертвая. На самом деле она была живая, просто спала. Манька заслонилась рукой от бегущих к ней людей, будто ей в глаза ударил мощный сноп белого, допросного света. Собаки лаяли на Маньку оглушительно. Рвались к ней. Вцепиться зубами ей в ляжку хотели. А может, и в глотку.
— Менты-и-и-и-и!
Тот, кто первым к ним бежал, наставил на Маньку пистолет. Прямо в лицо ей.
— Стоя-а-а-ать! Нашли-и-и-и! Она-а-а-а!
Манька развернулась, как боксер, и сильно, больно толкнула в плечо, в грудь Иссу обоими кулаками.
— Исса! Беги!
Мальчик перевернулся со спины на живот и накрыл телом, животом любимую черепаху. Состав, стоявший рядом на путях, тронулся. Прогрохотали мимо вагоны. Освободился путь. Ножево, омулево горели под морозным солнцем рельсы. Пустые рельсы. Чистые рельсы.
— Беги, Манька!
Она побежала. Она бежала вдоль рыбин-рельсов, убегала, а эти начали стрелять. Хлоп! Хлоп! Сухо щелкал челюстями смерти чистый и светлый морозный воздух. Хлоп! Мимо! Эх, Манька, многоножка-тараканька! Беги, не догонят! Жаль, сальце не доела! Всё всегда на свете белом жаль!
Грохот накатил, надвинулся ниоткуда, будто изнутри земли. Грохот придвинулся незаметно, оттуда, откуда никто не ждал. Заглушил захлебный лай овчарок. Не учуяли грохота. Не увидели тьмы. Запоздалый, предостерегающий крик чуть не разорвал ему молчащее горло: «Маня-а-а! Наза-а-ад!» — когда Манька, пытаясь перебежать пути, перепрыгнуть козой через рельсы, зацепилась носком разношенного, каши просил, верно со свалки, сапога своего за белую молнию рельса — и упала на рельсы животом, плашмя, и заорала от ужаса, а поезд уже накатывал, мчался, и нельзя было толкнуть его в фары, в грудь, в железную морду двумя бессильными кулаками.
Исса видел, как колеса переехали Маньку, перерезали ее пополам. Смерть прогрохотала, и он увидел ту половину, где недавно было Манькино живое лицо, руки, хватавшие перченое сало, рот, что жадно кусал алый терпкий помидор. Он смотрел на вздрагивающую плоть и на живую еще кровь. Кровь. Помидор. Флаг. Костер. Красный бархат кафтана; багряный бархат берета; розовый, бешеный, бегущий краем пропасти, живой жемчуг. Манькины ноги елозили по земле, они бежали, еще бежали. Вздрагивали. Уродливо вытягивались. Мальчик лежал животом на своей милой, родной черепахе, и он тоже видел разрезанную надвое тетю, и язык у него отнялся от страха и тошноты. Мальчика бурно вырвало на черный снег. Он лежал на снегу и корчился в приступах неодолимой рвоты.
Ознакомительная версия.